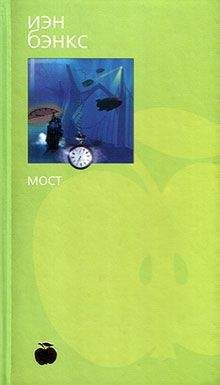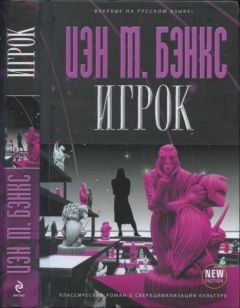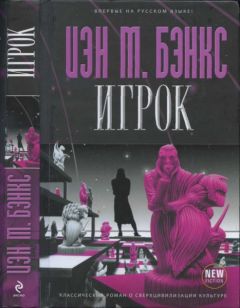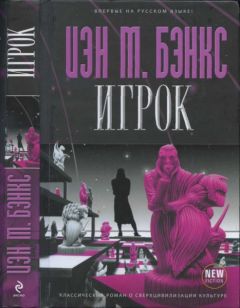— Что ж вы делаете, суки!
— Это становится навязчивым. — Андреа потянулась за виски. На телеэкране появилась сияющая торжеством Маргарет Тэтчер.
— Выруби! — завопил он, прячась под одеялом.
Андреа стукнула по кнопке на пульте, и экран потемнел.
— Господи боже ты мой, — простонал он из-под одеяла. — Только не говори о высшей налоговой ставке.
— Малыш, да я хоть словечко проронила?
— Скажи, что это всего лишь плохой сон.
— Это всего лишь плохой сон.
— В самом деле? Правда?
— Ни фига не правда. Я просто говорю то, что ты хочешь услышать.
— Идиоты! — бушевал он перед Стюартом. — Еще четыре года под этими полудурками! Господи боже, етить твою мать! Клоун-маразматик и шайка реакционеров-ксенофобов!
— Причем дорвавшихся до власти на безальтернативной основе, — подчеркнул Стюарт.
Рональд Рейган только что переизбрался на следующий срок. В Америке половина электората просто не явилась на участки.
— Почему я не могу голосовать? — ярился он. — От нашего дома рукой подать до Коул-порта, Фаслейна и Лох-Холи. Если этот мудила перепутает ядерный чемоданчик со своей задницей и мазнет пальцем по кнопке, хана моему старику. А может, и всем нам: тебе, мне, Андреа, Шоне, малышам, всем, кого я люблю! Так какого же хера лысого не могу голосовать против этих долбаных рейганов?
— Без волеизъявления нет истребления, — задумчиво изрек Стюарт. И добавил:
— А что касается реакционеров на безальтернативной основе… Политбюро — что такое, по-твоему?
— Политбюро ведет себя куда ответственней, чем эта свора вшивых ура-патриотов.
— Ну да, пожалуй. Так, твоя очередь — за пивом.
Особняк на Морэй-плейс, резиденция миссис и мисс Крамон, был у всех на слуху, особенно во время фестивалей. В нем шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на подающего надежды художника, или восходящую звезду шотландской литературы, или хмурого угреватого юнца, таскающего из комнаты в комнату синтезатор с колонками и узурпирующего «ревокс» на долгие дни кряду. Он придумал название: салон «Последний шанс». Андреа превосходно устраивал ее нынешний образ жизни. Она работала в магазине, переводила с русского, писала статьи, играла на пианино, рисовала, устраивала приемы, шаталась по гостям, наведывалась в Париж, ходила в кино, на концерты и спектакли вместе с ним, а с матерью — на оперы и балеты.
Однажды он встречал ее в аэропорту после очередных «парижских каникул». Она выходила из таможни с высоко поднятой головой, твердым шагом. На ней была широкая ярко-красная шляпка, синяя блестящая курточка, красная юбка, синие колготки и сверкающие лаком красные кожаные сапожки. У нее и глаза сверкали, а кожа светилась. При виде его Андреа широко улыбнулась. Ей было тридцать три, и она еще никогда не выглядела такой красивой, как сейчас. В тот миг он испытал очень странную смесь чувств. Любовь — безусловно, но еще восхищение пополам с завистью. Да, он завидовал ее удачливости, уверенности, спокойствию перед лицом жизненных проблем и неурядиц. Ко всему на свете она относилась будто к малышу-фантазеру, искренне верящему в свои выдумки, — не снисходительно, а с той же лукаво-серьезной усмешкой, с той же ироничной отрешенностью вкупе с теплой привязанностью, даже с любовью. Он припомнил свои разговоры с адвокатом и понял, что Андреа унаследовала некоторые черты его характера.
«Андреа Крамон, ты счастливая женщина, — подумал он, когда в вестибюле аэропорта она взяла его под руку. — Ты счастлива не из-за меня и в одном даже меньше, чем я, — мне повезло претендовать на твое время больше других, — в остальном же…»
«Пусть бы это не кончалось никогда, — подумал он. — Не дадим идиотам взорвать мир, не дадим случиться чему-нибудь еще более ужасному. Спокойно, малыш; с кем это мы тут разговариваем?» Вскоре он продал мотоцикл. Жизнь шла своим чередом: застрелили Леннона, Дилан ударился в религию. Что из этого больше его удручило, он бы не взялся ответить.
В ту зиму отец упал и сломал бедро. В больнице он казался очень маленьким и хрупким, здорово постаревшим. Весной ему потребовалось удалить грыжу, а потом, вскоре после выписки из больницы, он снова упал, сломал ногу и ключицу. «Не хрен пить не разбавляя», — сказал он сыну и отказался переехать в Эдинбург: не может же он расстаться с друзьями. Мораг с мужем тоже предлагали забрать отца к себе, и Джимми из Австралии прислал письмецо — отчего бы старику не погостить там несколько месяцев. Но отец не желал покидать родные места. На этот раз он долго пролежал в больнице, а вышел худым как щепка и потом так и не сумел восстановить прежний вес. Каждое утро к нему приезжала сиделка. Однажды обнаружила его у камина, он казался спящим — на лице застыла улыбочка. У него и с сердцем были нелады. Врач сказал, что он, наверное, ничего не почувствовал.
Как-то так получилось, что организацию похорон он взял на себя. Впрочем, это оказалось не слишком хлопотным делом. Приехали все братья и сестры, даже Сэмми получил увольнение, а Джимми прибыл аж из Дарвина. Он спросил Андреа, не обидится ли она, если он попросит ее не приезжать; она все поняла и сказала, что нет, не обидится. А когда все закончилось, хорошо было вернуться в Эдинбург, к ней и к работе. Потом всякий раз при мысли о старике на него нападало оцепенение, и, хотя глаза оставались сухими, он знал, что любил отца, и не чувствовал за собой вины в том, что скорбит без слез.
— Бедный мой сиротка, — утешала его Андреа.
Компания расширялась, увеличивался штат. Учредители купили большой новый офис в Нью-Тауне. Он спорил с партнерами насчет заработной платы персонала. Всем надо дать долю, говорил он. Пусть все будут партнерами.
— Что-что? — переспрашивали друзья. — Коллективная собственность? — И снисходительно улыбались.
— Черт возьми, а почему бы и нет? — упорствовал он.
Оба партнера поддерживали социал-демократов, а у Альянса идея участия рабочих в управлении производством была весьма в чести. На коллективную собственность партнеры не согласились, но ввели систему премиальных.
Однажды Андреа возвратилась из Парижа как в воду опущенная, и у него внутри болезненно екнуло. «О нет, — подумал он. — Что случилось? В чем дело?»
Но что бы там ни случилось, она предпочла это хранить в тайне. Сказала, что все в порядке, но была очень хмурой и задумчивой, смеялась редко, в компании часто глядела рассеянно, просила извинить ее и повторить последнюю фразу. Его это тревожило. Он даже собирался позвонить в Париж и спросить Густава, что за чертовщина с ней творится и что там вообще стряслось.
Но не позвонил. Мучился, пытался ее развлечь, водил в рестораны и кино, возил в гости к Стюарту и Шоне. Устроил ностальгический вечер с ужином в «Лун-Фуне», рядом с его старой квартирой на Кэнонмиллз, но ничто не помогало. Он терялся в догадках на пару с миссис Крамон, и они порознь пытались добиться от Андреа правды. Удалось матери, но только через три месяца и еще два полета в Париж. Андреа открыла ей тайну и снова отправилась во Францию. Миссис Крамон позвонила ему.
— Эр-эс, — произнесла она. — У Густава рассеянный склероз.
— Почему же ты мне не сказала? — спросил он потом Андреа.
— Не знаю, — ответила она пустым голосом. — Не знаю. И что теперь делать, не знаю. За ним некому смотреть, ухаживать…
Когда он услышал эти слова, в душе поселился холод. «Бедняга», — подумал он искренне. Но однажды поймал себя на мысли: это же так долго! почему он не может умереть пораньше? И возненавидел себя за это.
В восемьдесят четвертом, во время забастовки, он отказался пройти через шахтерский пикет. Компания потеряла выгодный контракт.
Андреа летала в Париж чаще и чаще, задерживалась все дольше. Гости на Морэй-плейс бывали все реже. Из Франции она возвращалась усталой, и, хотя не утратила спокойного нрава и легкости в общении с людьми, она выглядела подавленной, и ее очень редко удавалось развеселить. Андреа словно остерегалась принимать любые радости за чистую монету. Когда они занимались любовью, ему казалось, будто Андреа стала как-то особенно нежна, будто бы острее стала осознавать драгоценность, неповторимость этих мгновений. Теперь им в постели было не так весело, как раньше, но зато секс приобрел новое, более насыщенное звучание, превратился в своего рода язык общения.
Во время ее отлучек он одиноко сидел в большом доме, читал, или смотрел телевизор, или работал за кульманом. Если выпивал спиртное в разрешенных законом пределах, то забирался за руль «кваттро» и ехал к Норт-Куинсферри и там сидел перед громадным темным мостом, слушал, как бьется вода о камни и грохочут наверху поезда, курил травку или просто дышал свежим воздухом. Подчас возникала жалость к себе, но ее испытывала лишь одна часть разума — робкая, застенчивая. Другая же часть смахивала на ястреба или орла — голодная, жестокая, фанатично зоркая. Жалость к себе долго не задерживалась: стоило ей высунуть нос, хищная птица была тут как тут, рвала ее и терзала.