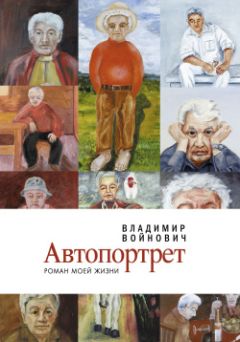– Все равно, раз люди пьют, – сказал он, – значит, можно считать, что праздник.
– А вы пить будете? – спросил я.
– Мы уже, – сказал Толик.
Он мог бы этого и не говорить, по его глазам было видно, что он «уже». Честно сказать, мне пить совсем не хотелось. Но отказаться было неудобно, я взял стакан и выпил залпом, а отец Толика смотрел на меня с явным любопытством: посмотрим, дескать, что ты за мужик и как это у тебя получается. А потом схватил разрезанный помидор и протянул мне. Я хотел выпить не поморщившись, но меня всего передернуло, и я быстро заел помидором.
У матери Толика глаза были красные – видно, она только что плакала. Сейчас она смотрела то на меня, то на Толика, и было ясно, что ей нас обоих до смерти жалко.
– Бабушка твоя тоже приехала? – спросила она меня.
– Бабушка приехала и мама, – сказал я.
– Мать небось убивается?
– Нет, – сказал я. – А чего убиваться? Не на войну идем.
– Все равно, – сказала она. – Что ж это получается, растишь вас, воспитываешь, а потом вы pазлетелись – и нету вас.
Я достал сигареты, протянул сначала отцу Толика.
– Не балуюсь, – сказал он, – и другим не советую. Ты мне вот что скажи, Валерьян. Я в период Отечественной войны тоже служил в ВВС. У нас там никаких самолетов не было, а только продукты. Сало, масло, консервы.
– Опять, – рассердился Толик. – Я же тебе объяснял: ты служил не в ВВС, а в ПФС – продовольственно-фуражное снабжение.
– Мне пора, – сказал я и встал.
– Я тебя провожу, – сказал Толик и встал тоже.
Несколько шагов мы прошли молча. Потом остановились под тополем.
– Валера, – начал Толик, волнуясь и подбирая слова, – ты на меня, наверное, обижаешься, хотя на моем месте…
Все эти дни я думал, как поступил бы на месте Толика, смог бы я или нет поступить иначе. Но в конце концов я понял, что смог бы. И не потому, что такой уж храбрый, а потому, что не смог бы сделать то, что смог сделать Толик.
– Ты понимаешь, – сказал он, – они же меня заставили.
– Да, но ты очень старался, – сказал я.
– Но они бы побили и тебя, и меня.
– Ладно, – сказал я. – Поговорим об этом в другой раз.
Что я мог ему объяснить?
Я нашел бабушку с мамой там же, на лавочке. Mне места не осталось; его заняла большая семья, провожавшая детину двухметрового роста с красным распухшим носом на длинном лице. Детина сидел в окружении матери, отца и двух маленьких девочек, должно быть, сестер, и плакал, а мать его утешала.
– Игорек, – говорила она, – не ты один, многие идут, надо же кому-нибудь служить в армии. Костя, скажи ты ему что-нибудь, – обратилась она к отцу.
– Я ему уже говорил, – сказал Костя. – Если не хочешь служить в армии, надо было учиться получше.
– Ты где так долго пропадал? – спросила меня мама.
– Толика встретил, – сказал я.
– Опять Толика? Неужели и в армии тебе не удастся встретить кого-нибудь поинтересней?
– Ладно, – сказала бабушка. – Они же все-таки друзья. Столько времени провели вместе. Работали на одном заводе.
В это время на площадь перед вокзалом вышел майор с пятном на щеке и прокричал в мегафон:
– Выходи строиться!
Бабушка схватила свою палку и еще хотела взять чемодан, но я отобрал его.
Те, которые сидели рядом с нами, тоже засуетились. Заплаканный парень вскочил на ноги.
– Подожди, – сказала ему его мать. – Подожди, я тебe вытру слезы, а то неудобно в строй становиться заплаканным. – Она вынула из сумки платок, вытерла парню слезы и подставила платок к носу. – Высморкайся.
И когда парень начал сморкаться, она посмотрела на него и вдруг сама заплакала громко, навзрыд.
– Ну вот еще, – сказал отец. – Держалась, держалась – и на тебе. Теперь ты еще будешь сморкаться.
Что там у них дальше произошло, я не знаю; мы побежали. Я бежал с чемоданом впереди и оглядывался. Мама и бабушка семенили сзади. Бабушка далеко вперед выкидывала свою палку, а потом как будто подтягивалась к ней.
Нас выстроили спиной к вокзалу в четыре шеренги. Я оказался в середине.
– Равняйсь! – скомандовал майор. – Смирно! По порядку номеров рассчитайсь!
Мы рассчитались. К майору подошел тучный подполковник в авиационной форме и спросил:
– Ну что, все в порядке?
– Двух человек не хватает, – почтительно сказал майор.
– Надо сделать перекличку.
Майор достал из кармана порядком уже измятый список.
– Слушай сюда, – сказал он и начал перекличку: – Алексеев!
– Я!
– Алтухин!
– Я!
После каждого ответа майор отрывал взгляд от списка и смотрел туда, откуда доносился голос вызываемого.
Моя фамилия шла следом за фамилией Толика, который очутился где-то в хвосте строя. В строю не оказалось все того же Переверзева и еще одного человека.
– Ну ладно, – сказал подполковник, – больше ждать некогда. Разбейте людей на команды и грузите в вагоны.
Майор отсчитал сколько-то там человек, потом протянул руку, как бы отсекая часть строя, и скомандовал:
– Эта группа напра-во! Десять шагов вперед шагом марш!
Вторая группа сделала восемь шагов, третья, в которой был я, – шесть. Потом каждой группе выделили по сержанту. Нам достался толстый, здоровый парень, у него на груди было несколько значков.
Он, выпятив грудь вперед, гоголем прошел перед нашим строем, внимательно оглядел впередистоящих. Потом отошел на два шага назад и изрек:
– Наша группа будет называться рота, так мне привычней. Ясно?
– Ясно! – заорали мы хором.
– Наша рота будет займать третий вагон. Ясно?
– Ясно!
– В вагоне не курить, курить только в тамбуре. Ясно?
– Ясно!
– Все, – сказал сержант. – Какой порядок езды будет, кто дневальный, кто дежурный – решим на месте. – Он вдруг напрягся, вытянул шею из воротника с целлулоидным подворотничком и скомандовал: – Напра-у! Шагом арш!
И мы пошли. Не в ногу, конечно, а кто как сумел. А родители наши шли сбоку и все кричали одно и то же: чтобы мы за собой следили, чтобы писали письма.
Мама тоже умоляла меня писать чаще. За ней шла бабушка и ничего не говорила, только бодро взмахивала палкой.
Сержант привел нас на перрон. Здесь стоял уже готовый состав с прицепленным к нему тепловозом. Я думал, что состав будет товарный, а он оказался нормальным пассажирским, только из старых вагонов, таких, какие ходят у нас на пригородных линиях. Сержант приказал организованно занять в вагоне места, но никакой организованности не получилось, все торопились занять там места получше. Я тоже торопился, но недостаточно, и поэтому мне досталась боковая верхняя полка. Но мне, в общем-то, было почти все равно. Я забросил свой чемодан на полку и снова выбрался на перрон.
Бабушка и мама стояли спиной к продуктовому киоску, жалкие и одинокие. Я посмотрел на них – сердце сжалось.
– Ну что вы раскисли? – сказал я. – Радоваться должны. Наконец-то избавитесь от шалопая.
– Да, конечно. – Мама хотела улыбнуться, но из этого у нее ничего не получилось. Губы у нее вдруг задергались, она отвернулась к киоску и заплакала. Бабушка посмотрела на маму и тоже отвернулась к киоску.
– Эх вы, нюни, – сказал я. – Что ж это вы от меня отвернулись? И что мне теперь из-за вас – дезертировать, что ли? И чего вы ревете? Я же вот не реву. А если хотите, я тоже.
И я стал делать вид, что реву, хотя мне хотелось зареветь на самом деле. А может быть, я и на самом деле ревел, а только думал, что делаю вид. Но все-таки я их немножко успокоил. Мама повернулась ко мне, улыбнулась и сказала:
– Не обращай внимания. Мы же с бабушкой женщины, и нам иногда можно немного поплакать.
Потом мы стояли и молчали, и я думал, что надо сказать, может быть, что-нибудь очень важное и значительное, но ничего такого придумать не мог, и мама с бабушкой тоже ничего не могли придумать. Они стояли и смотрели на меня, а я на них смотреть не мог и озирался по сторонам, лишь бы на них не смотреть.
Недалеко от нас в окружении всей своей родни стоял тот самый парень, который плакал там, в сквере, и теперь он уже не плакал, а улыбался и, размахивая руками, что-то рассказывал матери и отцу, и мать тоже улыбалась, а отец слушал его хмуро и невнимательно. Во всяком случае, мне так показалось, что невнимательно. А возле вагона стоял парень, который играл на гитаре, но теперь он был без гитары (наверное, оставил в вагоне). Возле него тоже стояли родители, маленькие пожилые люди, и еще чуть в стороне стояла красивая девушка – наверное, невеста, а может, даже жена. Она так стояла потому, что, наверное, считала, что у родителей сейчас больше прав на парня, а она отчасти вроде бы и лишняя, но если бы она была совсем лишняя, то, вероятно, ушла бы, но она не уходила – значит, лишней себя не считала. А может, считала, что если вот так будет стоять в самых ответственных случаях, то когда-нибудь обязательно станет не лишней: в общем, я не знаю, что там она себе думала, я сам об этом не успел додумать до конца, потому что в это время из вокзала вышел дежурный в красной фуражке и ударил в колокол.