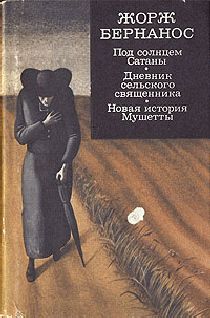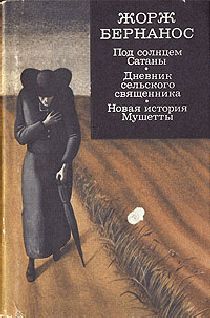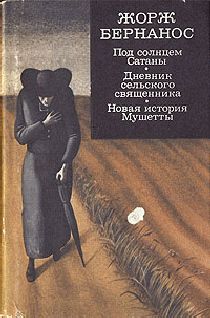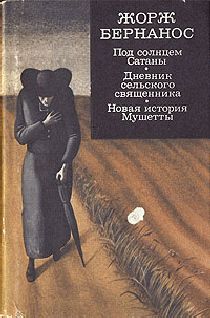Святой отец изумленно глядит, проводит рукой по лбу, старается понять… И его, рыцаря человечества, не миновала ужасная, ошеломительная забывчивость! Неужели он забыл?
– Помилуйте, друг мой! – настаивает Сабиру. – Мне ли напоминать вам о том, что было сказано пять минут назад, на этом самом месте?..
Он вспомнил. Последний дар милосердия, головокружительное обещание, которое могло бы его спасти и которому он внимал с недоверием, вместо того чтобы повиноваться, подобно неразумному дитяти, которое, само того не ведая, своими слабыми ручками творит великие дела… Как мог он забыть? Ему приходится напоминать! Единая мысль неотступно преследует несчастного два дня и две ночи, овладевает им всецело в то самое время, – о, проклятье! когда возможно было избавление, дарованное такой рукой! В решающий миг, в неповторимый миг своей необычайной жизни он был просто жалкой двуногой тварью, способной лишь страдать и вопить!
О, ни тонущий мореплаватель, когда среди утренней мглы из глаз его исчез внезапно алый парус, ни художник, умирающий при жизни, когда угас огонь вдохновения, ни мать, когда ускользает от нее взгляд умирающего сына, не восстонали бы к небу с такой жестокой тоской!
Но несгибаемый старец не упал на колени, не стал молиться. Мысленным взором он мерит хладнокровно глубину своего падения, в последний раз перебирает в памяти хитросплетения победоносного врага. "Я возненавидел грех, – думает он, – потом возненавидел самое жизнь, и та неизъяснимая сладость, что находил я в упоении молитвы, возможно, было отчаяние, таявшее в моем сердце".
Один за другим рассыпаются образы, рожденные нашим воображением, и когда в душе поселяется смятение, является рассудок и наносит нам последний удар. Слепой страх может быть внушен не только темным чувством, но и совершенным разумом, которым столь гордимся. И страх сей объемлет люмбрского старца. Он погружается на самое дно убийственной мысли. Возможно ль! В ту самую минуту, когда я уже считал… Как! Даже в упоении небесной любви!..
– Неужели Бог посмеялся надо мною? – вскричал он.
Когда спадает пелена обмана, который мы всю жизнь принимаем за действительность и с которым связали судьбу свою, когда все рухнуло, решительно все, какая сила движет нами, как не жгучее желание накликать беду, устремиться навстречу ей, познать ее, наконец?
– Идем! – молвил святой.
Широко шагая, он переходит садик, покрывшийся тенью от налетевшего облака и отворяет дверь.
– Вот он! – вскрикнула женщина, ждавшая его с сильно бьющимся сердцем.
Она бросается к нему и останавливается, пораженная искаженным лицом, выражающим одну неукротимую волю, лицом воителя, но не святого. Надежда поколебалась в ней. Но он, глядя поверх ее головы, идет прямо к запертой двери позади тяжелого дубового стола и, наложивши руку на скобу, знаком велит оставаться на месте своему оробелому собрату. Он отворяет дверь и видит темный безмолвный покой с завешенными окнами. Пламя горящей в глубине покоя свечи дрогнуло. Он входит и затворяется с покойником наедине. Выбеленная известью комната узка и длинна, она служит подсобным помещением при кухне; врач настоял, чтобы сюда перенесли хворого, потому что она просторнее других и имеет два окна, глядящих на восток, через которые виден сад, Сеннекурский лес, Борегарские холмы с множеством зеленых оград, пестрящих цветами. На мощенном красными плитами полу расстелен плохонький ковер. Единственная свеча едва освещает голые стены. Весь тот скудный свет, что неизвестно как, через невидимые щели проникает снаружи, облачком стоит вокруг белых, жестких, без единой морщины простыней, прямо ниспадающих до земли по обе стороны кровати, где лежит удивительно тихий и благоразумный теперь мальчик. Где-то хлопотливо жужжит муха. Люмбрский пастырь стоит в изножии смертного одра и молча глядит на распятие на чистой холстине. Он не надеется услышать вновь таинственное веление. Но обет был принесен, и приказ дан. Этого достаточно. Неверный слуга стоит на том самом месте, где тщетно ждал его господин, и бесстрастно внемлет справедливому приговору.
Он внемлет. Наружи, за опущенными занавесями, пылает и посвистывает в лучах солнца сад, словно вязанка сырых дров в печи. Здесь же воздух душен от запаха сирени, горячего воска и еще какого-то торжественного благоухания. Неземное безмолвие, которого не могут нарушить звуки внешнего мира, обволакивает их, подымаясь из недра земного. Оно восходит, подобно незримому пару, и в сердце его образы живого искажаются и распадаются, звуки слабеют и глохнут, – несметные лики неведомого мира черта за чертой проступают сквозь него. Словно две жидкости разной плотности, две действительности существуют одна подле другой, не смешиваясь, в таинственно стройном единстве.
Святой старец встретился взглядом с мертвецом и приковал к нему свои глаза.
Один глаз покойника открыт. Очевидно, дрожащая рука опустила веко слишком рано, сократившаяся мышца немного оттянула его кверху, из-под ресниц выглядывает синий зрачок. Хотя и потускнелый, он удивительно густого, почти черного цвета. Один он виднеется на белом лице, покоящемся в углублении подушки, – смотрит из широкого кольца тени, словно из сумрачного провала. Щуплое тельце под отягощенным сиренью саваном уже окоченело и приобрело трупную угловатость. Воздух, которым мы дышим и которому любы очертания живого, словно смерзся вокруг усопшего студеною глыбою. Железная кровать об охладелом тельце похожа на сказочное навье, навеки ставшее на прикол. Жив лишь сей взгляд, обращенный вспять, неотрывный взгляд изгнанника, настоятельный, как мановение.
Нет, пастырь не страшится взора, но вопрошает его. Он силится понять его немой призыв. Минуту назад он переступил порог сей обители, словно бросая вызов, умыслив свершить среди сих белых стен отчаянное предприятие. Он шел к мертвецу, не испытывая ни жалости, ни нежности, словно хотел преодолеть препятствие, подвинуть непомерную тяжесть… Но мертвец опередил: он ждет его, готовый к бою, напрягшийся противник.
Старец смотрит на приоткрытый глаз с напряженным вниманием и любопытством: мало-помалу выражение сострадания исчезает, уступая место жгучему нетерпению. Да, он видел смерть так же часто, как старый воин, зрелище привычное. Ступить вперед, протянуть руку, ощутить пальцами веко, закрыть стерегущую его беззащитную зеницу: что может быть проще? Не страх, не брезгливость удерживают его ныне, но жажда, бессознательное ожидание невозможного, того, что должно свершиться вне его, помимо него. Мысли его останавливаются в нерешимости, отступают, вновь движутся вперед. Он искушает мертвеца, как вскоре, сам того не ведая, будет искушать Бога.
…Вновь он пробует молиться, шевелит губами, – расслабляет сжатое судорогой горло Нет, еще немного, еще чуть-чуть… Безумный, безрассудный страх, что неосторожное слово навсегда прогонит нечто незримое, угадываемое, чаянное и пугающее, пригвождает его к месту, принуждает к молчанию. Рука, уже творящая крестное знамение, падает вдруг. От маха широкого рукава сутаны пламя свечи заколебалось и угасло. Поздно! Он видел, как глаза дважды открылись и закрылись, призывая его. Он подавляет крик. Погрузившаяся в темноту комната приобрела более мирный облик. Дневной свет просачивается сквозь ставни, рассеиваясь в воздухе. В пепельном сумраке проступают предметы, а над кроватью колышется голубоватое сияние. Часы в кухне бьют десять раз… Где-то звонко смеется девочка, смех ее долго дрожит в звучном утреннем воздухе… "Ну же, ну!.." – нетвердым голосом говорит святой.
Смешно суетясь, он роется в карманах, пытаясь найти огниво с трутом, подаренное графом де Сальпен (он каждый раз забывает его на столе), нащупывает спичку, тут же роняет и все приговаривает, стиснув зубы: "Ну же, ну!" Опорожняя карманы, он положил на пол нож на черенке из коровьего рога, какие-то письма, хлопчатый носовой платок дивного красного цвета, а теперь ползает по полу, шарит руками и ничего не может найти. Кровать – черная груда в полумраке совсем близко, мглистое сияние от затворенных ставней ширится, теснит потемки. Мало-помалу обозначается лицо покойника… Медленно-медленно всплывает из мрака. Старец склоняется совсем низко, вглядывается… Оба широко открытых глаза смотрят на него.
Полный безумной надежды, он все не отводит взгляда. Но ничто не дрогнет в распахнутых веках, в тускло чернеющих зеницах нет и намека на мысль… Все же… Может быть, в них другая мысль? И тут он увидел, узнал эту издевку… Наглая ухмылка властителя смерти, похитителя людей… Это он!
– Это ты, я узнал тебя! – вскричал злосчастный старец низким чеканным голосом. Вдруг ему показалось, что вся кровь отхлынула ледяной волной из жил в сердце. Боль, от которой и прежде ныла вся левая рука, отдаваясь в кончиках коченеющих пальцев, ударила нестерпимо, словно кинжалом, пронзила его от плеча до плеча. Впервые в жизни его обуял животный страх, от которого в груди, под ложечкой, образовалась тошнотворно сосущая пустота. Он весь напрягся, чтобы не крикнуть, не позвать на помощь. Жизнь повисла на волоске, смерть близка, очевидна, неотвратима. Отважный старец отчаянно борется с ней. Он покачнулся, сделал шаг, чтобы не упасть, ухватился за спинку стула. И в кратком мгновении, которое потребовалось, чтобы сделать этот шаг, сжалось сорок лет величайшего напряжения великой души, чтобы последним, нечеловеческим усилием остановить рок.