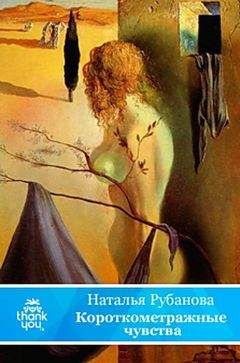Лист седьмой
Locus minores resistentia
Hennessy X.O. — the one & the only original — и есть ее/ его Locus minores resistentia.[45] А также Martell и вина Антинори — Eignanello, ex.me. For example. Ну и Santa Cristina, конечно.
Он/а выпил/а тогда изрядно; машину пришлось оставить и добираться до среды обитания, именуемой домом, на презренном М. «ЗАПРЕЩАЕТСЯ, — прочитал/а он/а ПРАВИЛА, — создавать ситуации, мешающие движению пассажиропотока».
— Есть такой известный поэт NN. Его знают все, кроме тебя и меня, — прошелестело, мелькнуло и выскользнуло: поташнивало, однако не настолько, чтоб.
Никогда не поздно обменяться пощечинами. Ни-ког-да. Что такое пощечина? Что такое никогда? А пить, пожалуй, лучше меньше: меньше — да лучше! Не то худо совсем будет, и хватит тут Веничку цитировать, хватит! Ангелы, Кремль, Курский вокзал… Черт.
Он/а не понимал/а почему всё именно так, а не иначе, почему люди такие злющие и тупые, красивых лиц — ни одного, и только запах бомжей на Комсомольской вместо сандала и мирры. Он/а снова поднял/а голову и прочитал/ а: «ЗАПРЕЩАЕТСЯ, — опять поташнивало, — создавать ситуации, мешающие движению пассажиропотока».
Он/а сплюнул/а и сел/а на освободившееся место. Нет-нет, определенно надо меньше пить; интересно, машина до утра достоит? Хорошая машина, новая… Необъезженная кобылка, красавица! Если у крадут… И зачем только люди пьют? Зачем он/а столько пьет? Да что, черт возьми, вообще происходит? Никогда не поздно обменяться пощечинами… Почему он/а всегда создает неудобства и мешает движению пассажиропотока? Само это слово — пассажиропоток — въедалось в нос нафталинной экономностью экс-совьетиков и навевало убийственную тоску. Он/а закрыл/а глаза и представил/а себе: море. Море!! Вот он/а плывет, и стайки разноцветных рыб, скользящих между кораллами… «Что делать, если жизнь поворачивается к тебе жопой?» — и рыбок как не бывало. — «Сделать так, чтоб та тебя не обгадила» — «Может, тебя подредактировать?» — «Как хочешь» — «А ты?» — «Хочу сверху».
Опять замутило. Он/а с трудом соображал/а и мечтал/а только об одном — добраться до среды обитания, именуемой домом. На М это оказывалось быстрее, чем на машине, но вот раздражение, которое вызывал пипл… Это можно было сравнить только с запахом из пепельницы, найденной ранним похмельным утром on Monday. Пипл входил и выходил, шумел и закрывался газетенками с книжонками, ржал аки коник и ковырял в носу аки чел, кричал, внимательно читал по складам НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ и тут же прислонялся —…да много чего! Чтобы случайно не подраться с кем-нибудь из «внешних раздражителей», он/а начала вспоминать: Эвтерпа — покровительница музыки и поэзии, так, хор-рошо, Мельпомена — трагедии, оч-чень хор-рошо, Талия — комедии, Клио — истории, зер гут, кто там еще? Кто там, черт возьми, еще?! Но еще не получалось: на Преображенке нужно было вставать и создавать ситуацию, мешающую движению пассажиропотока — иначе не выйти. Пассажиропоток же, наливаясь свинцовой своей тяжестью, сливал в спертый воздух грязные испарения, будто те — помои, и ныл, и переступал, и толкался, и ругался, и спешил, и плакал, и боялся ментов, и прогибался, и ненавидел, и торопился, и страдал, и хотел денег… — в общем, жил своей каждодневной жизнькой, от которой он/а успел/а отвыкнуть, так и не привыкнув несмотря на долгие годы тренировки. Он/а ведь был/а уже вне контекста, а тут… надо ж так оголить свою несчастную ахиллеску! Тут-то в нее Змий и вцепился, и наддал… «…Я по асфальту шагаю… — неслось из наушников то ли мальчика, то ли девочки, — с тем, кого сберечь не смогу…» — он/а проводил/а — ту? того? — долгим ничего не значащим взглядом и уже на улице подумал/а об улыбке сортира.
Большая Черкизовская выглядела особенно неприглядно. Там и так-то никогда не было хоть сколько-нибудь уютно, но сейчас убогие хрущобы казались совсем уж юродивыми, и крики местных недавнополовозрелых, смолящих на лавочках, вызывали у него/нее брезгливость.
Он/а открыл/а дверь и с трудом — вертолеты! — дойдя до кровати, рухнул/а. При видении Hennessy Х. О. затошнило; вскоре он/а уснула/а.
Потом кто-то долго и настойчиво звонил, но он/а не мог/ла и не хотел/а снимать трубку: за окном-то шел снег, с портрета-то щурился Уайльд, попугай-то предавался соблазнам обсценной лексики на трех языках, а тусклый луч солнца нагло пробивался через мутное стекло — снова не помыл/а стекла! — и страх похмельного депрессьона, и неспешный подлинный томик Кундеры на полу, и совершенно четкое осознание того, что он/а совершенно, абсолютно, удивительно классно одинок/а, ура, да здравствует, даешь, слава… (в скобках).
А маленький симпатичный воробей, чудом не замерзший в эту зиму, прохаживался тем временем по карнизу. Подглядев сквозь щель штор (вечный прищур бдящего ока) и покачав воробьиной своей головой, он кашлянул: «Какие же люди странные!» — и с тем улетел, оставив шестимиллиардное человечество со всей его предсказуемостью, фальшью и глупостью.
Лист восьмой
Мнимолёдности
Это чувство
Это чувство, напоминающее морскую соль, похоже на взрыв. Цунами. Катастрофу.
Оно сладкое, тягучее, абсолютно неприличное с точки зрения материала, которым пользуются пишущие (бездарности и те, кто может чуть больше: с точки зрения людей (не) разумных.
Оно прекрасно и безобразно, страшно и смешно — великий образец гротеска! — трогательно и вульгарно, невинно и искушённо.
Оно сидит в голове, стучит в висках, отдает в ступни, в щиколотки, колени, бедра, и выше, выше. Выше! — там, где грудь, и ключицы, и шея, и — ах! — снова: голова. Виски. Например, Scottish Collie/0,7. Locus minores resistentia!! Место наименьшего сопротивления — это чувство!! Оно не дает продыха, держит в колоссальном напряжении, связывает по ногтям и ресницам, забивается в потерянную пломбу, выглядывает из подмышек, из ноздрей, ушей, пупка; оно везде, всюду, всегда, постоянно!
Оно, говорит кто-то, динамично и легко усвояемо. У него теплые нежные губы. У него злые губы, страшные губы! Это чувство — Ночь и День, Луна и Солнце, Она и Он, Бабочка и Паук, Коралл и Нефрит, Любовь и Ненависть, Бедность и Богатство, лучшая в мире Стекляшка, блестящая в радуге отражений тысяч наших «Я», сплетенных между собой невидимыми нитями омерзения и восторга.
…чувство, когда хочется размозжить любимо(му)/(ой) — ненужное зачеркнуть — голову.
То чувство
То чувство похоже на стон недобитых Иродом младенцев. Оно страшное, гулкое, больное. Оно впивается острыми иглами в сухожилия, затягивает в смирительный корсет, смеется над святынями, носит с собой оружие, распинается о trip'ax и не только. Оно возбуждает, пьянит, сводит с ума. Водит за нос, покупает тысячу маленьких ненужностей. Оно нащупывает в темноте руки, проламывая диван словами — и слова становятся выпуклыми от такого нахальства, и их можно трогать, будто в книжке для слепых…
То чувство заглядывает в замочную скважину прежних чувств, пытаясь найти в них изъян, пытаясь заменить настоящим временем все остальные времена, которых гораздо больше, чем три, или пять, или семь… Оно обнимает шелковыми рубашками, пронзительными духами, горькими конфетами, сладкой водкой. Расчесывает на ночь волосы частым гребешком, рассказывает страшную сказку о том, о чем и сказать нельзя, и ездит по ушам, и целует их, и плачет, бедное, маленькое, жадное и эгоистичное, огромное, щедрое, самое лучшее в мире.
…любовь.
Это — То
Это — То, что они так долго искали. Оно думало, будто такого не бывает, и Оно тоже думало, будто такого не бывает. Но Это случилось и оказалось Тем. Оно задыхалось от свалившегося внезапно счастья, как сваливаются внезапно в колодец и тонут. Но и Оно не хотело бы ничего другого, ничего другого, ничего другого! Оно садилось к Оно на колени, дотрагивалось до колен, становилось на колени — так они понимали, что нашли главное.
Иногда им хотелось убить друг друга, иногда — умереть от блаженного прикосновения друг к другу, и всё было не как у людей, но Небо было, и Земля была, и они стояли на ней, хохоча и плача, плача и хохоча, а-а-а-а-ах-ха-ха, а-а-а-а-а-ах-ха-ха!
Лист девятый
Клиника фразеологии
У Риммы Рудольфовны три шубы, машина, двухуровневый флэт, дочка-розанчик, функциональный хасбант, а у Таисьи Филипповны сапожки «прощай молодость», хрущоба, сломанный пылесос и кролик дареный — пусть не конь, да в зубы одно не посмотришь. Римма Рудольфовна как сыр в масле катается, Таисья ж Филипповна в претензии: принимает на свой счет, глотает пилюлю, за живое задетая. Уж она с подпорок сбилась, до седьмого пота трудилась — лица нет, голова кругом, ум за разум зашел, выжатый лимон, света белого не видать, локоток не укусить, а Римма Рудольфовна знай себе и в ус не дует, чаек заваривает, в сторонке стоит — ни тепло ей ни холодно: дела делает, интересы Компаньи блюдет. Дело ее — сторона, вот и горюшка мало, все как с гуся вода. Ни бровью не поведет, ни ухом, а на рыльце ни пушка — депиляция. У Таисьи ж Филипповны и на эпиляцию нема — оттого ни жива ни мертва, язык отнялся, руки по швам, кровушка в жилах стынет. На снедь и глянуть не может — зрачки на лоб лезут: что осиновый лист, поджилки трясутся, душа в пятках мозольных, хвост поджат — небо с овчинку! А то и дело: на sosлуживицу-то новую ручонками ну махать, ножонками топотать — соперницу учуяла. «Скажите-ка на милость, — кричит, — и мы пахали!». Sosлуживица бровь поднимает, глаз прищуривает, а тут — на тебе, не фунт изюма! озлилась, значит — в бутылку лезет, гусей дразнит, с левой ноги встает, битый час пик горячку порет, из себя выходит, под жаркую руку дверью хлопает: черт-те что! Сюда б Римму Рудольфовну, да в пробке она, незадача… Уж Римма-то Рудольфовна цену всему знает, уж она б всех на один аршин-то смерила, а Таисью-то Филипповну и подавно — даром разве та поперек горла стоит, кровь портит, глаз колет, ухо режет? Ужо ей покажут, ужо узнает она, где раки-то зимуют — ужо с нее три шкурки-то спустят! С ней-то, с Риммой Рудольфовной, шутки плохи — коли в порошок не сотрет, на пушку точно возьмет — хлебом не корми. Не поздоровится никому, коли на носу не зарубят — язычок-то прикусить надобно, не то с раками зимовать! Таисья Филипповна меж тем зубы скалит: крутит, околесицу несет — кошки у ней на сердце скребут, камень на душе висит, в жар бросает: страшно! Голова кружится, кусок в горло нейдет — западню чует. Ржа Таисью Филипповну поедом ест, только глазенками и хлопает: «Скажите-ка на милость! Вот так так! Ну и ну! Хорошенькое дельце!». А Римма Рудольфовна к парадному уж подруливает — все в ней через край бьет, все в руках горит. Уж ей ли, ей ли, в самом деле, гор не своротить, живьем в землю не зарыть, быка за рога не взять?.. Пальца ей в рот не клади — тут же в оборот возьмет, в одну точку бить будет, свое гнуть станет: из кожи вон, хоть кол на голове теши, пушкой не прошибешь! Заботу ней полон рот, да только Римма Рудольфовна — калач тертый, воробей стреляный, рука у ней набита: и не такие виды видывала, подумаешь, птенцы желторотые, молоко на губах не обсохло, плавают мелко, а туда же! Отворяют Римме Рудольфовне дверь, а за дверью той народец небо коптит, в потолок плюет, баклуши бьет, ворон считает, лодыря гоняет, из пустого в порожнее переливает — мухи с тоски дохнут! — с жиру бесится, интересы Компаньи не блюдет, одним словом. «Язык, что ли, без костей?» — Римма Рудольфовна брови сводит, а Таисья Филипповна косточки всем уж перемыла, тары-бары развела, антимонии навела, лясы-балясы поточила, шершавый почесала. «Вы по-что, Таисья Филипповна, каштаны из огня таскаете, свинью подкладываете, рыбку в мутной воде ловите?» — «Да без меня тут и вкривь и вкось, через пень колоду, с пятого на десятое, — кричит. — На авось хотите? С меня взятки гладки!» — «Комедью-то не ломайте, — Римма Рудольфовна брови сводит, интересы Компаньи завсегда в приоритете. — Кто не работает, тот не ест! Ножку-то не подставляйте, масла в огонь не лейте!» — «Голубушка, Римма Рудольфовна… — стук-постук, стук-постук. — Sosлуживица-то наша ни пава ни ворона, ни рыба ни мясо, из молодых да ранних, — стук-постук. — Бестия продувная, сошка мелкая — ее и пушкой не прошибешь!» А sosлуживица: «Где Саша не пропадала? Ой ли, чертуш-ко не шутит? Ва-банк пора!» — мозгует, значит. Была не была — к Таисье Филипповне: «Дурачина ты, простофиля! Уж я тебя под орех-то разделаю, уж головушку-то намылю, уж перцу-то да на все корки задам!» Снег на голову Таисьи Филипповны сыплется, гром средь ясного ее неба раздается, недаром бабушка-то надвое говорила, вилами по воде писала… Ох, не хочется меж небом и землей болтаться! У нее ж ни кола ни двора, дома хоть шаром покати — один кролик, и тот — декор! Бьется щукой об лед, аж живот подвел — хоть зубы на полку, хоть на хлеб и воду садись, до ручки дошла! А у Риммы Рудольфовны все честь по чести, дым столбом, чин чином: на широкую ногу живет, дом — полная чаша. Sosлуживица же — вот те раз — глотку промочить не будь дура, по маленькой, в перерыв. И вот уж подшофе, под градусом, per aspera ad astra… «Черт бы такие звезды подрал!..» — негодует Римма Рудольфовна: человечий фактор ох как мешает интересы Компаньи блюсти! Уж лучше б, думает, семь пятниц на неделе, чем под мухой, чем в лоск да в стельку, чем море разливанное! Ошибочка вышла, проблемка-то яйца выведенного не стоит. У нее-то, у Риммы Рудольфовны, все в ажуре, яснее ясного, комар носа не подточит, точка в точку, черным по белому — да как на ладони, буквально! А тут — по пьяной лавочке, с пути сбилась, в лужу, значит, села… Уперла в бока руки: «Ни за что! Ни в жысть! Попалась на удочку! Вокруг пальца обвести! На арапа взять! Очки втирает, зубы заговаривает, а я — за чистую монету принимай? С три короба наврала! На мякине провести хотела!» Тут Таисья Филипповна со всеми потрохами на стол — ни дать ни взять, кошка — запрыгивает, одежду на себе рвет: «Черта с два карта бита, черта с два! Я вам рога-то пообломаю, костьми лягу, перчатку брошу!» А Римма Рудольфовна ухо востро держит, к трубке телефонной жмется, кого надо вызывает: до мозга костей, до кончиков ногтей, всеми печенками, в пух и прах, под метлу, единым кулаком: «SOS, ëтить их боком!» Интересы Компаньи блюсти не дают, анархия — мать порядка! А Таисья Филипповна, змея подколодная, головушка светлая, крокодиловы слезы льет: в ложке воды утопить — завсегда, камень за пазухой держит. Взятки с нее гладки: кричит, кукарекает, уши прожижживает, оскомину набивает, глаза мозолит… грамоту Филькину зачитывает: «Дни мои сочтены, в гроб гляжу, одной ногой в могиле стою, дышу на ладан, к праотцам отправляюся, богу душу отдаю! Как прикажу долго жить, как ножки свои протяну, как в ящик-то сыграю, вечным сном засну, как головой заплачу, конец найдя, как шею сломаю, костей не собрав, как в петлю-то полезу!.. Руки на себя наложу, глаза закрою — так и вспомните: вогнали во гроб, в могилу свели, к стенке на убой поставили — тут и испущу вздох последний…»