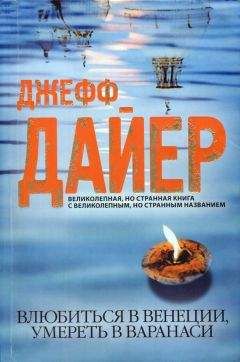Тем вечером на террасе «Вида на Ганг» давали концерт. Ночь была ясной и теплой, полной внимательно слушавших звезд. Террасу освещали свечи, мигавшие на ветру, которого почти не было. Аудитория человек в тридцать собралась послушать немолодую скрипачку, которой аккомпанировал таблист — худой мужчина с совершенно белыми волосами и в очках с толстыми линзами. На тампуре играла женщина, чья застенчивость очень соответствовала ее инструменту. Скрипачка объявила, что они исполнят рагу Малкаунс. Я уже слышал ее раньше на своем айподе в разных версиях, но до сих пор не понимал, что отличало рагу Малкаунс от всех прочих раг со схожим звучанием. Фрагменты, которые, казалось бы, являлись ее структурными единицами в одном исполнении, начисто отсутствовали в другом.
Ночь спустилась несколько часов назад, но скрипка все равно звучала вечерне, сумеречно. Я знал, что скрипачка исследует рагу, постепенно пробуждая ее к жизни, чувствовал, как постепенно погружаюсь в геометрию звуков, но все равно не мог ее расслышать. Хотя на этот раз я, кажется, догадался, в чем тут дело. Мелодия зависит от времени. Если играть немного быстрее или медленнее — она все равно останется узнаваемой. В то время как здесь сердце раги, мелодия, из которой она возникла, была лишена всякого временного контекста. Исчезло целое измерение слушания. И я почувствовал, что растворяюсь в бесконечности чего-то такого, чего не мог ни распознать, ни понять.
Возможно, то была музыка духа, однако никто не пытался замаскировать тот факт, что она рождалась физическим способом. Не было страха, что тонкая лирическая ткань вдруг разорвется трением смычка о струны. Его можно было прервать в любой момент, но этого никто не делал. И даже свободно воспаряя ввысь резким скрежещущим звуком, оно с каждой нотой все глубже зарывалось в землю. Скрипка обволакивала, густая, как лежащая на реке ночь; их было невозможно различить. За каждым приливом следовал отлив, и все же музыка неумолимо текла вперед и ускорялась. В ней начал ощущаться пульс — возвращение времени. Нельзя было сказать, когда он появился. Я уловил его, только когда он уже вовсю жил в мелодии — как если бы он неощутимо, неслышно присутствовал в ней еще до того, как стал различим. На реке покачивались звезды. То, что некоторое время обретало форму, начало наполняться жизнью. То, что исподволь накапливалось, обретало реализацию в духе: мелодия становилась тем красивее, чем меньше она оставалась собой. Вынужденная уйти от себя, она стала больше себя и через это — еще чище самой собой. Пульс стал сильнее всего остального, таким сильным, что порождал желание, которое был не в силах удовлетворить, — желание ритма.
В этот момент зазвучала табла. Ночь вздохнула с облегчением. Птицы промелькнули в темноте тенями самих себя. Скрипка взмывала, охваченная желанием приблизиться к несравненной скорби саранги, и сама невозможность его исполнения еще больше усиливала чувство томления. Табла отвечала на ее страстный призыв, и скрипка вновь становилась узнаваемой. Временами в музыке проявлялось какое-то топочущее, разухабистое, грубоватое начало, ничуть, впрочем, не противоречившее ее медитативности и трансцендентности. Словно бы музыканты открыли некое универсальное измерение, простиравшееся от Аппалачей до Индо-Гангской равнины. Скрипы и взвизги стали явственнее, как, впрочем, и скользящие извивы мелодии, покинутой, но не совсем позабытой. Табла заплетала ритм все более затейливыми узлами и так же стремительно их расплетала, все быстрее и быстрее, но каким-то чудом даже успевая иногда помедлить. В самом сердце этого галопа жил звенящий гонг. Я уже не мог отслеживать ритмические циклы — по крайней мере, сознательно, — но как бы далеко ни удалялись друг от друга скрипка и табла, им всегда было куда вернуться, и на каком-то уровне я уже знал, где находится их место встречи, знал, как оно звучит, и предвидел его — пусть даже только после того, как оно снова пустело. Тьма текла над рекой, смешиваясь с водой. Река была тьмой. Небо над рекой было цвета реки, но, в отличие от нее, не двигалось, тогда как река двигалась непрерывно. Тьма скрывала тьму.
Я смотрел на другой берег Ганга каждый день, но даже не пытался до него добраться. А потом в один прекрасный день взял и поехал. Лодка ткнулась в мягкую грязь ровно напротив Джайн-гхата, и я вышел на берег. Он был пустынным, но не совсем: еще несколько туристов решили предпринять такое же путешествие и теперь бродили вокруг. То, что выглядело издалека таким притягательным, вблизи оказалось довольно мерзким. Ничего даже отдаленно святого тут не было. Берег был большей частью сухим и песчаным. Местами он напоминал заболоченный лунный ландшафт с лужами тухлой воды, пятнами мхов и бурого ила. У кромки воды, между большими клочьями грязной пены, шныряли очаровательные ржанки. По всем нормальным меркам это была просто помойка: здесь валялись раздавленные сигаретные пачки, мокрые полиэтиленовые пакеты, кости каких-то животных, битые черепки, старая сандалия и пара сломанных грязных авторучек. В рытвине, заполненной жижей с каким-то ядовито-зеленым отливом, застыло несколько воздушных змеев. Мимо проковыляла собака, куда больше похожая на гиену. Казалось, ты стоишь среди последствий чего-то ужасного, но вот только чего? Наверное, последствий глобальной свалки мусора, из которой уже повыбрали всё хоть сколько-нибудь достойное внимания, оставив только полные отбросы, которые даже по самым низким меркам мусорной свалки, даже ввиду извечной индийской привычки выжимать из каждой вещи все, что можно, уже нельзя было ни повторно использовать, ни переработать. Делать тут было нечего, и оставаться тоже незачем.
Я пожалел, что поехал. До того можно было еще хоть как-то верить, что там, на другом берегу, души находят покой. Если же это было так, то вечность теперь представлялась на редкость грязным и загаженным местом. Лучше уж родиться заново, еще разок сыграть в рулетку на колесе самсары и надеяться на инкарнационный апгрейд в следующем воплощении, поскольку вряд ли может быть что-то хуже, чем кончить тут, в этом отстойнике.
В особенности если ты тут и умер и — как мне не уставали объяснять уже в который раз — переродился в виде осла. А если такое случится, вспомнишь ли ты, хотя бы в ту долю секунды, когда вершится переход, что был в прошлой жизни собой? Уцелеет ли от тебя хоть что-то в новой инкарнации, или ты так и будешь жить беспамятным ослом? Если второе, то можно вообще не нервничать насчет перерождения. Когда ничего не знаешь о предыдущих или будущих жизнях, то и неважно, рождался ли ты до того. Если осел понятия не имеет, что прежде мог быть чем-то или кем-то еще, он и не ведает, что он осел. Таким образом, благодаря невежеству осел благополучно избегает самсары — хотя, весьма вероятно, он так не думает, когда таскает грузы или когда его бьют палкой, чтобы заставить делать то, что он делать не хочет, тогда как все, что он хочет, это валяться в мягкой грязи и, глядя через реку на Варанаси, думать: «Постойте-ка, кажется, это что-то знакомое».
Меня стало клонить в сон. Я думал о своих идеальных подачах на теннисных кортах и, наоборот, об играх, когда я делал ошибки в самые ключевые моменты и в результате проигрывал матч. Я думал о сыгранных играх, о десятках тысяч выпитых пинт пива, о сотнях вынюханных дорожек кокаина — и тут я понял, что у меня перед глазами проносится вся моя жизнь, как, по идее, это происходит в момент смерти. Считается, что она разворачивается перед тобой вся целиком — возможно, когда-то так оно и было, однако сейчас, в век высоких технологий, имеет место некая избирательность. Нет нужды переживать заново каждый момент жизни, каждый нюанс желаний, соблазнов и уступок тем и другим, уйму времени, проведенного перед телевизором, в очереди на автобус, за ковырянием в носу. Все это просто вата. Нет, если лишь горстка мгновений, которые действительно что-то значат, которые формируют и определяют жизнь. И одним из таких моментов, понял я, был этот, когда я осознал, что моя жизнь… и тут я вздрогнул и очнулся, вдруг испугавшись, что и вправду чуть не умер, что такова была моя судьба — умереть здесь и переродиться ослом, причем ослом с мозгами, ослом, мучимым совершенно неуместным, но навязчивым проблеском памяти — даже не воспоминанием, а каким-то ноющим сомнением, — для чего же я все-таки был человеком?
Я неуверенно поднялся на ноги, как новорожденный птенец. Остальные туристы исчезли. Я был один на дальнем берегу Ганга.
Я проверил, на месте ли лодочник — он был на месте, — и немножко прогулялся, глядя через реку на Варанаси. И тогда ощущение, что я совершил ошибку, приехав сюда, постепенно уступило место обратному. Теперь я был рад, что приехал: это напомнило мне о том, что раз уж жизнь — там, на другой стороне, в Варанаси, в миру — это все, что у тебя есть, то единственное настоящее преступление, единственная ошибка — не жить ее в полную силу. Посмертие или вечность только что открылись мне в своем реальном виде — в виде мусора. Никому не нужного и не имеющего никакой ценности. То были последствия самой жизни — то, что остается, когда истекает твой срок.