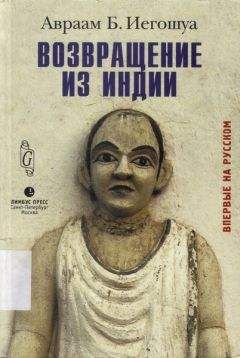Сельчане, говорит, не тревожьтесь, не страшитесь, и хоть время — оно и впрямь быстро летит, а только тревожиться нечего, потому что гроб этот закрыли еще в Иерусалиме и уроженку вашу погибшую там же набальзамировали, как какую-нибудь египетскую принцессу, так что теперь она может еще сколько-то дней в гробу лежать и ничего ей не станется, а поэтому и вам не обязательно спешить с похоронами. Мы с вами сейчас время немного остановим, пусть себе стоит недвижно и ждет, покуда мать не вернется попрощаться с погибшей дочерью. А если вы не хотите вносить ее в церковь, где вы молитесь, и не решаетесь взломать замок и внести ее в материнский дом, так отнесите этот гроб в школу, где она училась в детстве, потому что там она и раньше ждала, пока мать к ней придет, когда еще маленькой была, ученицей. И когда придет время взять ее оттуда и отнести в церковь для отпевания, то знайте, что она чиста, как уснувший ангел, и поэтому можете смело открыть крышку гроба и посмотреть на нее напоследок, потому что она сохранила красоту свою даже и после смерти.
И еще про себя самого сказал напоследок — что он, мол, не просто курьер, который доставил тяжкую весть и тут же назад возвращается, а специальный посланник, и у себя на родине отвечает за многих людей, за все человеческие кадры, и потому его долг у нас — дождаться, пока мы ее похороним по всем правилам, и только тогда ему можно будет вернуться в свой далекий город, где и своего горя сейчас полно, и доложить, что он исполнил всё, что ему было поручено тамошним начальством.
В конце концов жители деревни соглашаются поставить гроб в школе, признав, что в этом есть не только логика, но и здравый смысл, а поскольку нужно найти ночлег для сопровождающих, то кто-то предлагает вообще прервать на день-другой школьные занятия и всех приезжих разместить там же в школе, так что всё кончается тем, что гроб освобождают от веревок, спускают с прицепа, вносят на руках в учительскую и наглухо закрывают за ним дверь, а в двух классных комнатах сдвигают к стенам парты, насыпают на пол соломы и кладут на нее матрацы, подушки и одеяла. Не проходит и часа, как все устроены, и в деревню возвращается глухая тишина, только у костра остаются несколько людей, чтобы встретить старую паломницу, на случай, если придется ее утешать, потому что она вполне могла ведь и заподозрить что-то неладное, увидев, что за ней специально послали. Но оказывается, что в этом нет надобности, — старуху так возбудило посещение монастыря, да и сам новогодний молебен, что она даже в деревню вернулась закутанная во всё черное и в темном платке на голове. И к ней тут же, как она есть, вызывают иерусалимского посланника с его переводчиком, потому что у самих односельчан не хватает духу сообщить ей печальное известие и они предпочитают, чтобы это было сделано от имени святого города Иерусалима. Но посланник и консул приводят с собой ее внука, и, увидев мальчика, старая женщина тут же узнает его, хотя не видела уже несколько лет, и понимает, что случилось что-то страшное, если эти люди специально привезли сюда ее внука, поэтому она медленно, машинально стягивает с головы свой черный платок, и Кадровик неожиданно видит перед собой старый, морщинистый оригинал того лица, которое, по рассказам пожилого Мастера ночной смены, было полно такого неповторимого обаяния.
Парнишка, почему-то очень испугавшийся при виде бабушки, уже, кажется, жалеет, что так настойчиво требовал этой поездки — он, запинаясь, рассказывает ей о гибели матери и о том, что гроб с ее телом ждет сейчас в деревенской школе. И тут старая женщина вдруг выпрямляется и, гневно сверкая глазами, сообщает приезжему гостю через переводчика, что она не понимает, зачем они так бессмысленно тащили тело ее дочери в такую даль, вместо того чтобы похоронить ее там, где она сама хотела. Сама? Вот как? Интересно. Где же это? Да в Иерусалиме, где же еще! Дочь сама выбрала себе этот город, потому что он принадлежит всем.
— Как это всем? В каком смысле? — изумленно спрашивает Кадровик, но Временный консул обрывает его. Ни в каком! Пусть он ее не слушает. Эта старческая болтовня лишена всякого смысла. Не могут же они тащить этот гроб назад. Это категорически исключено. Это попросту невозможно.
Но старуха каким-то слепым инстинктом смертельно раненного животного угадывает, что Временный консул здесь не самый главный и всё решает вот этот молодой мужчина с измученным лицом и усталыми глазами, и она тотчас же поворачивается к Кадровику, падает перед ним на колени и начинает со слезами на глазах умолять, чтобы он согласился отвезти тело ее дочери обратно туда, где она погибла. Мало того что это будет отвечать воле самой погибшей, но и она сама, будучи ее матерью, тоже получит право жить и упокоиться в святом граде Иерусалиме. Внук, потрясенный этой неожиданной просьбой, склоняется над старухой, пытаясь ее поднять, но она с силой отталкивает его и в приступе отчаяния падает на землю и катается по ней. Односельчане в ужасе бросаются к ней, подхватывают на руки и несут в избу, и Кадровику издали кажется, что эта плачущая женщина в черном уплывает от него по воздуху, как исчезающее в темноте ночное видение. Он чувствует странное разочарование и даже печаль от того, что все его благородные намерения привели к такому неожиданному результату. Может быть, Временный консул сходит к старухе и еще раз поговорит с ней, объяснит, что это не их вина? Но тот, впервые за всю поездку, демонстрирует явную враждебность. Нет, он никуда не пойдет, ни за что. И вообще, хватит уже с этой виной. Это уже перебор, сверх всякой меры. Скоро весь мир будет участвовать в судьбе этой погибшей уборщицы.
Кадровик потрясен. Этот пожилой человек всю дорогу был так дружелюбен и заботлив. Поразительно, почему он вдруг набросился на него с такими упреками. Впрочем, что ж. Раз так, не о чем больше говорить.
И он поворачивается, чтобы вернуться в школу. Можно было бы, конечно, напомнить пожилому консулу, что он, в конце концов, получает плату именно за то, чтобы переводить всё, что ему скажут, на местный язык. Но если люди забывают, за что получают деньги, напоминать им об этом бессмысленно. Обойдемся без помощи. Он молча входит в классную комнату и с раздражением смотрит на спящих газетчиков. Как всегда, проспали самое интересное, а потом будут заниматься мелодраматическими инсценировками. Ладно, пусть спят. Он берет чемодан с вещами покойной женщины и выходит из школы. До рассвета еще далеко, эти места куда севернее Иерусалима, но костры уже не горят, их погасили, покончив с ожиданием и всеми тревогами, чтобы еще поспать пару часов, в окнах тоже темно, и он идет во тьме по засыпанной снегом деревенской улице, надеясь по наитию угадать нужную ему избу и впервые с начала поездки ощущая тяжесть своего одиночества. Если он найдет старуху, то обязательно скажет ей, что, в отличие от своих спутников и даже от ее собственного внука, его совсем не удивляет ее просьба. И когда он действительно находит ее избу благодаря пробивающемуся через ставни свету и видит через щелку, что она не одна, с нею несколько пожилых женщин, наверно ее подруг, и внук рядом, он не задумываясь стучит в двери, входит в ярко освещенную комнату, еще не зная, как он выразит, без переводчика, то, что хочет сказать, но почему-то совершенно уверенный, что сумеет сделать это и что его поймут, входит, в полном молчании протягивает старухе чемодан дочери, а потом, всё так же молча, садится рядом с нею и низко склоняет голову, как будто он тоже член семьи или другой близкий человек, пришедший разделить тяжелое семейное горе.
В полдень он присоединяется к своим водителям, Временному консулу и газетчикам, которые вместе с жителями деревни и людьми, пришедшими из окрестных деревень, направляются в церковь на отпевание. Но в последнюю минуту решает не идти с ними внутрь. Если уж он видел ее во сне и даже обнимал и целовал, как живую, зачем ему сейчас смотреть наяву на лицо мертвой? Он молча дает водителям знак, чтобы они его не ждали. Журналист с Фотографом проходят мимо него, торопясь занять удобную позицию, чтобы всё увидеть и всё, что им разрешат, сфотографировать. Впрочем, эти типы сфотографируют ее, даже если им запретят, уж они улучат какую-нибудь удобную минуту, чтобы незаметно, без вспышки, запечатлеть то мертвое лицо, которое он всю дорогу так упорно защищал от их бесцеремонного любопытства. Уж теперь, когда его не будет, этот проныра Фотограф не упустит своего шанса, не зря же он тащился в такую даль. Уж он не откажется от возможности поймать в объектив красивую женщину, пусть и в гробу.
Последние люди исчезают в дверях маленькой церкви, и, оставшись один, он неторопливо идет по утоптанному снегу, пересекая деревенскую площадь, и по узкому переулку проходит к маленькому местному кладбищу, которое с трех сторон окружено высокой обледеневшей оградой. Почему-то ему кажется, что вот сейчас он забрел на самый край света. Дальше ничего нет. Тишина и безлюдье. Он проходит между памятниками, но не видит никаких признаков свежевырытой могилы. Выходит, старуха не отказалась от своего желания вернуть тело дочери в Иерусалим! Но может быть, односельчане все-таки похоронят дочь тайком от матери — скажем, выроют ночью могилу и похоронят, чтобы мать не знала, а уж потом ей расскажут. Он слышит негромкий шум, доносящийся из церкви, чьи-то тихие, сдавленные всхлипывания, потом все звуки заглушает глубокий бас священника, к которому громким хором присоединяются собравшиеся. Это монотонное, траурное пение заставляет его вздрогнуть. Он понимает, что все в церкви, наверно, удивлены его отсутствием, и тем не менее твердо намерен остаться снаружи. Он еще там, в Иерусалиме, дал себе клятву, что ни за что не посмотрит в ее мертвое лицо, которое — теперь он в этом уверен — еще не раз будет ему сниться по ночам. Но теперь и для меня пришел час расставания с тобой, Юлия Рогаева, думает он, вытирая нежданную холодную слезу. Почему-то ему не дает покоя странная просьба старухи. Неужели мы поторопились? Неужели ошиблись? Может быть, эта женщина действительно хотела остаться в Иерусалиме? Может быть, она и в самом деле видела в этом истерзанном городе что-то свое, принадлежащее ей наравне со всеми нами? Не случайно же она, совсем далекий от еврейства человек, осталась там даже после того, как настоящий еврей, который привез ее туда, сам не выдержал и сбежал. А что, если бы Мастер ночной смены, защищая себя от увлечения, не уволил ее тогда, она бы и сейчас еще работала у них в цеху? И он мог бы иногда заходить туда, чтобы посмотреть на нее живую?