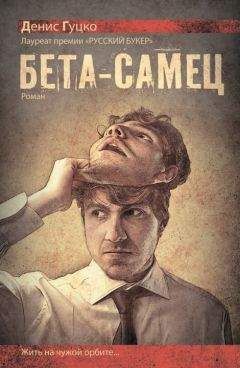В конце концов разум перестал вмешиваться и, свернувшись клубочком, улёгся зимовать. И тогда-то, в ледяном и ветреном феврале, началось самое завораживающее.
Однажды после зимней сессии они собрались у Женечки. Были обычные студенческие посиделки ни о чём. Гости скинулись на «Кеглевича», хозяйка развела в трёхлитровых банках “Zukko”. Разноцветные банки стояли на журнальном столике, покрытом разноцветными лужицами, и это называлось «шведский стол». Включили музыку. У Женечки папа был моряк, к тому же меломан, так что хороших записей у неё всегда хватало. Марина сидела на диване, поглаживая между ушей Женечкиного кота. Кот был напрочь лишён приятности, даже высокомерной кошачьей ласковостью обделила его природа. «Обычный сторожевой кот», — поясняла Женечка. Наречён он был почему-то Жмурей, без всякого почтения к статусу — возможно, с намёком на слово «жмурик» за его способность спать (или притворяться спящим) даже тогда, когда хозяйка кричала ему в ухо: «Вставай, нас обворовали!». Но такое Женечка позволяла себе редко. Да и кот редко впадал в столь глубокий сон (что было ещё одним доводом в пользу предположения о притворстве). «Жжжмуря! — говорила хозяйка. — Жжжмур-ря!». А Жмуря вместо того, чтобы не открывая глаз, лениво повести в её сторону ухом, вскакивал и становился в стойку.
— Жжжмуречка!
(Женечка, похоже, испытывала нежные чувства к звуку «жжж»: живущего на кухне кенара звали Жора). Вот этот-то сторожевой кот, обнюхивавший всех при входе, время от времени совершавший обходы по квартире, позволял Марине, если выпадала свободная от службы минута, себя погладить. И Марина клала его себе на колени и гладила до тех пор, пока коту не надоедало.
Вечеринка катилась своим чередом. Стоя в тёмной Женечкиной спальне, где он укрылся от весёлого бедлама, Митя смотрел на отражение Марины в остеклённой рамке, вместившей чёрные лодки, чёрные пальмы и жёлтый, рогаликом уходящий в кофейное вечернее море, берег. Профиль её, наложенный на тропический пейзаж, казался кукольно-мягким. Митя чувствовал сладкую обезволивающую робость — робость перед собственными желаниями, такими божественно огромными, что совершенно невозможно было придумать им какое-нибудь стандартное житейское решение. Рисованные пальмы и отражение её профиля поверх этих пальм — это вполне могло заполнить весь вечер. Марина гладила Жмурю и смотрела перед собой, в чёрное стекло окна, наверняка видя какой-то свой коллаж из силуэтов и отражений. Кот урчал, вытянувшись во всю длину на её коленях, но время от времени озирался.
— Я сейчас вот что поставлю.
Женечка вытащила одну кассету и вставила другую.
— Это кто?
— Какая-то Офра Хаза, еврейка.
— Так это по-еврейски?
— Фу, двоечник! Это — на иврите.
— Хорошо.
Марина уронила голову к плечу: «Какая прелесть!». Подчиняясь предчувствию, Митя вышел из спальни в зал. В голове стояла странная, посторонняя мысль — но такая отчётливая, будто была продиктована по слогам: всё уже решено, всё давно решено. Марина ссаживала озадаченного кота на пол и улыбалась Мите той пристальной, адресованной лично — как письмо — улыбкой, которая соединяет двоих, как только что полученное письмо соединяет отправителя и получателя чем-то, до поры скрытым в конверте.
— Потанцуем? — приказала она, поднимаясь.
…Сборы были коротки. Да и не было особенных сборов. Всё делалось как бы само собой, в той же незыблемой уверенности: всё решено.
Люсе он сказал сразу.
Было раннее утро. За длинным чёрным платьем, сохнущим на багете, угадывался апельсин солнца.
— Две недели на рынке, — кивнула она в сторону платья. — Две недели. Окорочка, окорочка, окорочка… Зато заработала вот… как тебе?
Люда готовилась к экзамену по вокалу. Ходила по своей келье, пинала попадавшиеся под ноги стоптанные кроссовки и дышала каким-то особенным образом, словно проглотила насос и теперь старается, чтобы этого никто не заметил. Это был очень важный экзамен. И труднопроходимый.
— Отсев, — повторяла она с отчаяньем. — Отсев, отсев, понимаешь, какой-то идиотский отсев. Зачем, а? Что за слово вообще ненормальное? Ну — посев. А что такое от-сев? А? Правда — зачем этот отсев, ну скажи? Идиотизм!
Ректор, «правнук Мефистофеля», был настроен против Люды. Он даже время спрашивал сочным громыхающим басом. Он сказала ей, прервав занятие: «Вы так собираетесь петь, милочка? Идите тогда в филармонию, они вас с радостью примут. Но приличное сопрано вы никогда из себя не выдавите, это я вам говорю».
Люда то и дело подходила к зеркалу, распускала косы, заплетала их потуже, чтобы не пушились. Через минуту они всё равно становились похожи на пучок чёрных пружинок, и она распускала и заплетала их снова.
— Я слова плохо помню.
— Да перестань метаться.
— Не перестану.
— Только энергию растратишь.
— А если я её не растрачу, я опять возьму на тон выше. Выше, понимаешь! Он меня сожрёт. Забодает своими рожками. Я говорила тебе, что у него шишки на лысине, пеньки от рогов? Говорила, кажется. Тю, я забыла, говорила или нет.
— Говорила.
— Вот ты не веришь, а ты приходи посмотри. Посмотри.
Люся попросила его зайти к ней, «поотвлекать» от предстоящего экзамена — и он пришёл, хоть и пришлось объяснять не произнесшей ни слова Марине природу их с Люсей отношений. Ещё Люся просила пойти с ней, но этого он уже не мог. Его и самого жгло волнение. Он и сам готовился, собирался с духом. Мама предупреждена, собирается в путь. Родители Марины уже в пути, будут завтра. Платье решили шить. Подходящего костюма нет ни в одном магазине. И как со всем управиться, совершенно непонятно.
Люся стала рассказывать о своём Петре Мефистофелевиче, о том, как он отчислил какого-то парня только за то, что увидел его играющим на скрипке в переходе, и было понятно, что рассказывать она собирается долго и подробно. Но Митя спешно засобирался, приврал о несданном зачёте.
— Значит, вот ты какой друг, да? — Люда упёрла руки в бёдра. — С тонущего корабля, да? С тонущего?
— Люсь, ну надо мне, не могу, извини, — Митя открыл дверь.
— Врун и предатель. Вот так!
Уже в дверях он обернулся:
— Вообще-то, да… В общем, я женюсь. Но не завтра, конечно. Собирался потом сказать, официально… Я надеюсь, ты почтишь, так сказать…
У Люды словно что-то лопнуло в лице. Руки её так и остались на бёдрах, но стали невыразительны, мертвы как руки манекена. Но она мотнула головой, словно сбрасывая с себя что-то, сказала:
— А вроде не собирался?
— Да так неожиданно всё. Сам обалдел. Придёшь на свадьбу? Слушай, хочу, чтобы ты моим дружком была.
— Что? Как я буду твоим дружком? Я ж это, того… не того пола…
— Почему нет? Я и Марине сказал. А чтоб не спрашивали, я заранее всем объясню. Если ты мой лучший друг! Почему нельзя?
— Ладно, Мить, беги. Дай тебе волю, ты мне мужские признаки пришьёшь, чтобы ни у кого уже вопросов не возникало.
— Я побегу, ладно?
— Беги, Мить.
Весь тот день, когда Люся должна была сдавать экзамен, он провёл с Мариной. Они заперлись в её комнате и целовались до одурения, до синевы на губах. Они чуть не сделали это — Митя замешкался, не сумев вовремя расстегнуть ремень, долго дёргал, был вынужден сесть, и своей копотливой вознёй извёл на нет весь запал. Шепнув Марине: «Вечером», — он ушёл в свою комнату. Вскоре у него заломило спину и состояние было такое, будто толкал в гору вагон. К вечеру он рассыпался. Казалось, шагнёшь, а ноги-то и нет, горка песка в туфле — так и высыплешься весь. А в ушах трагическим шёпотом звучало это его многообещающее «вечером».
И тогда он вспомнил, что нужно проведать Люду: у неё же экзамен.
— Совсем забыл, — оправдывался он перед Мариной. — Забыл совершенно. Я должен к неё съездить, я не могу не съездить к ней.
Через весь город, гордясь собственным благородством, Митя отправился к Люсе. Поднявшись на её этаж, ещё на веранде, он услышал нечто странное. Митя пошёл по знакомому лабиринту коридоров. Возле одной из дверей на сундуке сидели двое. Курили. Один кивнул:
— О Люська твоя даёт!
Со стороны Люсиной комнаты, выведенное насыщенным академическим, сопрано доносилось: «Русская водка, что ты натворила».
…Люся сидела на полу, закинув локти на диван. Между ног её стояла полупустая бутылка водки и открытая банка магазинного компота. Селёдка и чёрный хлеб нетронутые лежали рядом на развёрнутых нотах.
— П…ц! — она широко раскинула руки. — Не сдала.
Не стал даже штаны искать. Звонили как на пожар. Хлопая глазами, пробежал по квартире — Люси не было. «А, сегодня поёт на свадьбе, поехала переодеваться», — вспомнил Митя и бросился к двери. Он уже поворачивал ключ, а звонок ещё верещал, сверлил сонный мозг.