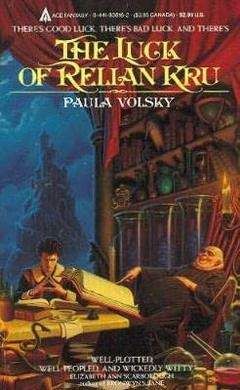Зачем нужны драки, зачем пятьдесят раз бить кулаком по лицу, если можно один раз – ножичком в артерию?
Улица цветная, дикая. Джунгли. Людей много, людского мало. Кто змеей скользит, кто пыхтит дикобразом, иголки выставил, не тронь меня. Из ларька тянет жареным, вывеска предлагает крылышки и ребрышки, копченый мальчишка с антрацитовыми волосами красиво манипулирует ножами. Шипит и обугливается мясо, у прилавка очередь. Неудивительно, думает Кирилл, мясо всегда в ходу. Займись мясом – будешь сыт и весел. Все мы люди, всем хочется жрать, все мы знаем, что такое голод, все мы умеем грызть и жевать.
Но есть те, кто не умеет нападать и грызть. Чтобы найти их, надо спуститься в метро. Это особенные существа, Кирилл их знает. Они уже не способны сожрать ближнего, они не умеют прыгать и вонзать клыки, они вынуждены оставаться людьми и делать то, чего не делает ни один хищник: просить. Это нищие старухи. В них нет ничего животного – только людское. Они слабы и морщинисты, иные уродливы. Они вынуждены действовать только по-человечески. Умолять Христа ради. Кирилл нашаривает мелочь, но потом достает бумажные деньги, пятьдесят рублей, подходит, дает, наклоняется, смотрит в лицо, в глаза старухи, но ее взгляд направлен вниз, а губы шепчут неразборчивую благодарность, призывают Бога спасти и сохранить его, Кирилла, или что-то в этом роде, и человеческого, на уровне слов, контакта не получается, зато когда Кирилл сует вдвое сложенную купюру в ладошку – она захлопывается капканчиком, прихватив указательный палец Кирилла, и в момент касания сильный энергетический импульс переходит из тела старухи в тело Кирилла, особенный, чисто животный, он не как удар током, он не теплый и не холодный, но живой, контакт меж мясом и мясом, и Кирилл отходит; людское перешло от старухи к нему, небольшое количество, но достаточное, чтобы успокоиться.
Он едет в вагоне и понимает, что хандры больше нет, страх перед солнцем прошел, весна перестала ужасать.
«Состарюсь, – подумал он, – буду так же стоять. В переходе между „Новокузнецкой“ и „Третьяковской“. Ссохшийся и больной, буду брать медные деньги, а взамен от меня к дающим по капле будет передаваться людское».
Но это будет не скоро. Сначала – сладкий мальчик Боря. Уловить, сломать, утолить голод. Буду зверем, пока сильный, а ослабею – стану человеком.
Во дворе все было сырым и гадким – земля, асфальт, полусгнившие лавочки, ржавые детские качели. Но поверх трухи и грязи так туго тянуло апрельской свежестью, такие набегали дуновения, что казалось, всё мокро и грязно оттого, что новорожденное, подождать – и само высохнет, примет правильные очертания, станет цветным и опрятным. Мила постояла возле машины – уж больно хорош был воздух – и пошла к дому. Зазвонил телефон, неизвестный номер, включила, голос умного Димы зашипел, забулькал, словно колбасу жарили:
– Послушай, не выключайся, я хотел...
– Чего тебе надо? – грубо перебила она. – Иди к черту.
– Подожди... Извини, я сорвался, я не... Только не выключайся!
– Ну? Чего надо?
– Где Маша?
– Спроси у Маши.
– Ты же знаешь, она... У нее – абонент недоступен! А я... Мне... надо поговорить. С ней. Я тебя прошу. Пожалуйста. Ты знаешь, где она. Найди ее.
– Она сама тебя найдет.
– Я тебя прошу... О, что ж вы обе такие...
– Какие?
Абонент издал болезненный пневматический звук – полувсхип, полускрип – и закричал, глотая концы слов:
– Твари вы, обе, вот вы кто! Шлюхи. Животные. Я сам ее найду, без тебя обойдусь, ненавижу, особенно тебя, это ты виновата...
Мила торопливо нажала кнопку. Последние две недели Дима звонил не менее пяти раз в сутки. И не стеснялся в выражениях. Она внесла его номер в черный список, но Дима был умный и стал пользоваться чужими телефонами. Или, может быть, даже купил себе десяток новых сим-карточек. Он просил прощения за грубость, умолял устроить встречу со сбежавшей подругой, получал отказ – и обрушивал новый водопад оскорблений. И смех и грех, обезумел человек.
«Но я ни при чем, – подумала сейчас Мила, – моя совесть чиста, я до последнего отговаривала Монахову и, кстати, оказалась права, Мудвин всего лишь хороший человек, одинокий мужчина, на которого женщина сама прыгнула, – а Дима любит ее, не любил бы – не ругался такими страшными словами...»
Но бог с ними. Разберутся. Там игра, там всего лишь взбалмошная бездельница развлекается, а здесь, в мрачноватом пятиэтажном доме, в подмосковной тишине, решают судьбу человека.
Кирилл встретил ее церемонным поклоном, помог раздеться, но не дотронулся, держал дистанцию. Боялась – начнет обнимать, в щечку целовать, или что там принято делать, когда любовница к любовнику домой является... Но он только смотрел. Даже не улыбался. За его спиной висел глубокий коричневый полумрак – видимо, всюду в доме были плотно задернуты шторы.
– Что-то ты сегодня бледная.
– Долго ехала, – сказала Мила. – Ужасные все-таки эти подмосковные дороги... Пыль, грязь... Грузовики. Чем дальше – тем больше грузовиков. Кошмар.
– А как ты хотела? Это тебе не Москва.
– Месяц назад такого не было. В прошлый раз я доехала за час, а теперь – почти два...
– Тогда был март, – сказал Кирилл. – Сейчас – апрель. Начало строительного сезона. И дачного. Дальше будет лучше.
– Ты хотел сказать: хуже.
– Тебе – хуже. А им – лучше.
Мила села, вытянула уставшие ноги. Вспомнила, как ее маленькую легкую машинку едва не сбросило с дороги воздушной волной от пролетевшей навстречу фуры, удержать руль удалось с трудом, снесло на обочину, она успела увидеть ямы с водой и серый от грязи кустарник, а чуть дальше – чернозем с прошлогодней стерней; вот так вылетишь в кювет и останешься там, никем не замеченная, а смрадные автопоезда будут с ревом катить мимо.
Кирилл принес поднос, уставленный чашками и рюмками.
– Тебе, – мягко заметил он, – на шоссе вообще нельзя. Ты – городская. Тебе надо, чтобы было гладко, чисто, чтоб светофоры, бензоколонки на каждом повороте и прочие прелести... Подъезжаешь, вся такая красивая, на каблуках, ногти накрашенные – подбегают работяги, бак наполняют, стекло протирают, а сама ты в это время кофе пьешь с булочкой... Город – территория женщин. Там хаос, там ты имеешь иллюзию самостоятельности.
– Разве город – это хаос? Это порядок.
Он сел рядом с ней, придвинул ближе огромную пепельницу, закурил.
– Нет. Всё наоборот. Город – территория хаоса. Чем дальше от города – тем больше порядка. Порядок – это черная дорога, вонючие грузовики. Женщина сидит дома, а мужчина едет к ней, в дыму, в грязи, в мазуте, через ночь, через пустыню – вот настоящий порядок, Мила. И этот порядок установлен не людьми. Не мужчинами, не женщинами. Так налажено Богом и природой, во времена, когда не было еще ни мужчин, ни женщин – а только самцы и самки.
– О боже, – сказала Мила. – Прекрати немедленно. «Самцы», «самки» – фу. Примитивно, неинтересно.
– Прекращаю.
– У тебя опять травой пахнет.
– Да. Пахнет. Потому что я ее курю. Траву. Хочешь – и ты покури...
– Лучше вина налей.
Он поморщился.
– Весной вино не идет. Красное для зимы, белое для лета – а весной я пью портвейн. И тебе советую. Проверено годами практики.
– Тогда и ты выпей, – велела Мила. – А то я буду пьяная, а ты обкуренный, каждый на своей волне, так неинтересно...
Кирилл укоризненно покачал головой.
– Что ж ты так плохо обо мне думаешь? Мы поймаем одну волну. Я прослежу. У нас будет наша общая волна. Тебе понравится.
– Верю.
Мила сделала глоток сладкого густого порто, рассмотрела черную бутыль, вспомнила Мудвина, Монахову с блестящими глазами и всё, что было потом: исчезновение подруги, поиски и обнаружение – отважная дамочка двое суток зависала у нового любовника.
А началось тоже со стакана портвейна.
Наверное, людоед прав: есть в портвейне что-то такое, чего нет ни в буржуазном вине, ни в аристократическом коньяке, ни в универсальной простонародной водке.
Еще вспомнила собственное любопытство и даже легкий приступ восторга. Подруга решительно сбежала от богатого сожителя к небогатому спортсмену, никакой любви, обыкновенное весеннее приключение, история из жизни современных бодрых девушек, доживем до старости – будем вспоминать и смеяться...
Посмотрела на Кирилла. В полумраке людоед выглядел малореальным. Казалось, сейчас криво улыбнется и повиснет меж полом и потолком, не выпуская бокала из руки. «А этого – подумала – как вспомню? С каким чувством? Кто он мне? Зачем нужен? Почему ушла сегодня от хорошего Бориса и пришла к плохому Кириллу? Потому что девочки, типа, любят плохих мальчиков? Так он и не мальчик уже. И вообще не человек. “Плохой”, “хороший” – это не про него; нечисть, вурдалак с безволосой грудью, умный, тихий, идеально замаскированный под мирного обывателя; не теплый, не холодный – посторонний, не от мира сего, такой не будет, как Дима, реплики в “Твиттере” вывешивать, такому только натуральное подавай, живое, теплое...»