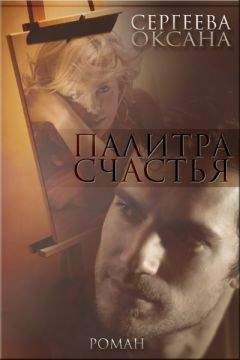Фининспектор все еще высится в дверях. Видно, у него не первый спор с Мишкой, и сознание того, что этот парень изуродован пулей в то время, как он, налоговый работник, носит лишь свою довоенную болезнь, призывает к снисходительности, даже, может быть, к желанию вернуть этого заблудшего на истинный путь.
— Несознательность! — чеканит фин. — Не понимаешь ты, что у меня политическое дело, государственное, а не просто контроль. Читать надо труды или просто газеты. Сельское хозяйство скоро переведут на промышленную основу. Фермы будут — как цеха. На полях сплошная автоматика. Все население будет — как рабочие. Всем — одинаковое вознаграждение. Жить в агрогородах, а деревни с этими личными сараюшками, с частнособственническими остатками — под корень.
— Было, уже было! — взрывается Мишка. — Мечтать легче, чем справиться с бедностью. Ты сам-то давно из Москвы выезжал? Деревню видел? Какие агрогорода? Откуда?
— Да, надо мечтать, — отвечает фин горделиво. — Мечтать! Ты, фронтовик, погряз в этом хламе!… — Он указывает на станочки, поделки, опоки. — Ты в рубликах этих потерялся. Ты думаешь, мне легко на четыреста восемьдесят в месяц, а? Да меня бы эти частники озолотили бы, стоит глазом моргнуть. Но — держусь!…
Он продолжает почти проникновенно, делясь с Мишкой своим, выстраданным, снизойдя к его темноте:
— Трудно! Да, трудно, фронтовик! Мечта меня держит! Через несколько лет зальют всех молоком, а щи — пожалуйста, в кубиках. Растворил — аромат, все необходимые вещества. Да что угодно будет. Все! Разве бабки это обеспечат? При чем здесь бабки? Отстал ты от времени, отстал!
И уходит, аккуратно закрыв за собой дверь.
Мишка машет руками, как крыльями.
— Ну расписал, ну расписал! — со свистом и бульканьем бросает он. — Вот тип. Экспериментатор! И ведь действительно для себя ничего не хочет, а только лучшей жизни для всех. И откуда они знают, как народ хочет жить? Как можно по теории рассчитать, как пойдет жизнь, по какому руслу? И это он про сто восемьдесят миллионов, самых разных, со своими языками и навыками. Да ты сначала хоть один райончик возьми и проверь, можешь ли райскую жизнь наладить и захотят ли этого люди? А если, скажем, этой бабке нравится щи варить и людей кормить, если ее не только рублик манит? Да не хочет она твоих кубиков, не хочет!
Валятеля уже не остановить, завелся.
— Мертвечину ненавижу! Это он не русские, это он немецкие порядки хочет завести. Всех нельзя, как на конвейере, выравнять, а инвалидов с глаз убрать. Нельзя сделать из жизни стерилизатор. Мы народ одухотворенный, кипящий. Мы фашистов с их железным порядком тем и побили, что вскипели и себя ни в чем не щадили. Такие мы… Всегда были у нас и юродивые, и калики перехожие, и Левши тульские, и Ермаки, и Хабаровы… Всех причесать, всех на конвейер поставить — порядок, может, и появится, а душа исчезнет, живая жизнь. Левша выродится, а Ермак с портфелем станет на службу ходить. Среднестатистический русский — это чучело. Знаешь, что такое энтропия? Стремление к энергетическому уравновешению, и конечный результат — гармония, полное спокойствие, тепловая смерть! Когда энергия иссякает, нет перелива тепла, нет движения. Вот такие фины и хотят теперь, когда иная жизнь, не военная, взять верх и всех причесать под свою гребенку. «Запретить, обложить». Мы народ непохожий, плохой ли, хороший ли, а непохожий. Тем живы. Вольностью, разбегом. Мы в войну это хорошо поняли — что такое русская душа. Недаром про Александра Невского заговорили, про Кутузова, недаром в колокола стали бить. Да у нас вечно арестантикам в праздник лучшие пироги пекли, любых сиромах [5] и бездомных пригревали, ночлег давали — это ж не по правилам, не по порядку. Но уж такие мы сердобольные. А эти явились из бумажных канцелярий, со слюнявыми карандашами — снова прижать. Порядок… А на амбразуру грудью бросаться — это разве был порядок? Нет, Димка, я увечный, но я не на пенсию жить хочу, не в инвалидный дом, а работать вот здесь в сарайчике и быть полезным. Воздухом дышать вместе со всеми. В шалман ходить по вечерам, если тоска заест, с друзьями видеться…
Он ударом ноги вышибает дверь, и темное небо, чуть подсвеченное дальними огнями стадиона, врывается в сарай звездным холодом. Хороший боец был этот Мишка. Пулемет его замолк, а сам он продолжает поливать врага булькающими очередями слов. Отчаянный. Странным образом все, о чем он сказал, смыкается с тем, что говорил в шалмане Инквизитор, с теми мыслями, что родились в голове Димки, когда он бродил по Площади, готовясь к докладу. Выходит, их объединил не просто случай, не одна лишь крыша «Полбанки».
Воздух остужает его. Мишка сникает, вздыхает, издав свистящий паровозный звук, и улыбается:
— У нас в отряде, — бурчит он, — если случалось затишье, дня на три и больше, то командиры сами бой искали. Шли на врага. Иначе начинал баловаться народ. Бражничать по селам и прочее. Дымился от безделья, как торф на солнце. Много еще удали у нас. И боевой, и мастеровой, и торговой, всякой. Прижать ее — сопьются. Засамогонятся. Потом будем охать: ах, что за народ такой непутевый. Пока есть еще удаль. Война крепко нас пробудила к делам. Только дай чего отковать, отлить. Не держи!
Поздно вечером приходят Петрович и Яшка-герой. Петровича они сразу узнают по неравномерному хрусту ледышек и глухому постукиванию палки. Правда, после известия об ордене походка Культыгана изменилась, выправилась как-то, протез перестал нищенски приволакиваться и теперь бежит, топает победно поперед здоровой ноги.
Яшка ставит на стол что-то громоздкое, тяжелое, обернутое газетами, вытирает вороной чуб. Вид у него, как всегда, взъерошенный и от вечной спешки мокрый — будто без конца он форсирует свой Днепр. Выпуклые черносливы горят. Яшка уже принял свою фронтовую дозу и готов взорваться в споре — но Биллиардиста с ними нет. За распахнутой шинелью Яшки поблескивает маленькая золотая звездочка. Петрович осторожно оглядывается: все ли на месте в сарае? Ничего не конфисковано, не сгорело, не пропало? Живет Петрович неподалеку, у него комната в деревянной двухэтажке на Масловке, без удобств, но светлая и сухая — и всего лишь на одну его небольшую двухдетную семью, без стариков, без ситцевых разгородок: прелесть. Но кормит-то Петровича сарайчик.
— Ну что? — спрашивает он у Валятеля. Мишка щурит глаза в усмешке, выбухивает:
— Живем как картошка: если зимой не съедят, весной посадят.
— Что, был?
— Был.
— Обошлось?
— Обошлось. Но грозится. Налоги повышают.
— Слышал, слышал, — подвывает Петрович. — Придется закрывать хозяйство. На мебельную фабрику пойду. Боюсь только: не выдержит душа одну и ту же фанерку прибивать. Поток!
Яшка— герой достает пачку «Беломора»; видя тоскующий взгляд Валятеля, сует ему в рот папироску, чиркает зажигалкой-патроном.
— Кури, Валятель. Ростовские, лучшие в мире! Потом бинт сменишь. Не горюй, мы с тобой в славный город Кенигсберг поедем. Написал мне верный человек: там на сдаче вторсырья можно крепкую деньгу схватить. Возьму отпуск — и махнем. Там, понимаешь, свинцовых телеграфных проводов полно и пробки настоящей на теннисных кортах. Золотое дно!
У Яшки всегда полно всяческих замыслов. Если Валятель возразит ему, он тут же схватится в словесной драке и начнет отстаивать свой план с пеной у рта. Но Валятель уже наговорился с фининспектором.
Димка переводит взгляд с Яшки на Петровича.
— А где Гвоздь?
— Гвоздь поехал к твоему подполковнику.
— Какому подполковнику?
— Ну, с ниверситета твоего, — поясняет Петрович. — Узнал, где живет, поехал. Димка охает:
— Да как же он… Зачем? О чем он будет с ним говорить?
— Надо, значит. Гвоздь знает, что и как.
Димка представляет: вот Гвоздь поднимается на лифте к Головану, звонит. Путано объясняет. Да у Голована же сотни студентов, он, может, и думать про Димку, студента филфака, забыл. И вот подполковник должен выслушивать о каких-то урках с Инвалидного рынка, о рулетке, об угрозах Чекаря. Стыдно… Что он, Димка, маленький ребенок, нуждающийся в опеке взрослых людей?
— Да ты, Студент, чего краской наливаешься? — напрямик рубит Яшка-герой. — Они сразу общий язык найдут. Этот же твой подполковник — он, я так понял, боевой, да? Фронтовик?
— Фронтовик.
— Ну вот. С полуслова они все поймут. Гвоздь даже ордена свои нацепил. Да что ордена… Он свою медаль красненькую прикнопил.
— Красненькую?
— Ну, довоенную еще. С финской. В войну «За отвагу» на серо-голубой муаровой ленте вешали, на большой, а до войны — на маленькой, красненькой. До войны «За отвагу» — это ого!
— Он ничего не говорил про это.
— На то и Гвоздь. Сохранил! Молодец!
— Гвоздь знает, — вмешивается Петрович. — Его учить — воду в водку лить. Он все уладит, Студент.
Димка хмурится. Не хочется ему, чтобы все обсуждали его дурацкие промахи. Да ничего не поделаешь — Гвоздь в одиночку Димку тоже не выручит, нужна помощь завсегдатаев «Полбанки».