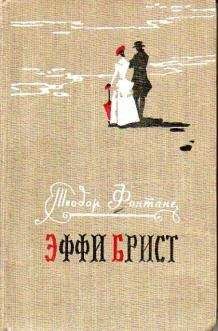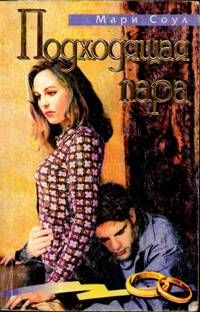Миссис Хатч услышала мои крики и позвала повитуху, крепкую дебелую женщину, которая положила руки поверх моих и нажимала на живот так отчаянно, что почти выдавила ребенка из меня. При этом она все время говорила со мной бархатным успокаивающим голосом.
Вот только ребенок решил застрять на полпути, и пришлось звать доктора. Я уже была в таком состоянии, что не заметила, как доктор засунул голову под простыню, прикрывавшую мои ноги. Внутри что-то сжимало и дергало, и, кажется, доктор сунул руки прямо туда и выдернул ребенка. Когда это закончилось, я почти ничего не видела.
Раздался громкий крик, и доктор сказал:
— Попкой вперед шел. Это очень тяжело, но вы, юная леди, справились. Посмотрите, какую красоту вы принесли в этот мир! — Повитуха держала ребенка, и я поспешно отвернулась к стене. — Ну еще парочка швов, и мне здесь больше делать нечего, — добавил он.
Когда в мое разорванное тело воткнулась игла, слезы обожгли глаза. Я сжала зубы и вцепилась в простыню. Наконец он отпустил мои ноги и прикрыл меня одеялом.
— Вы проделали большую работу, дорогая. А теперь отдохните. Миссис Хатч — добрая женщина, она присмотрит за вами, пока вы не оправитесь.
Доктор оставил меня с повитухой, которая, сияя всем своим мясистым лицом, положила на мой лоб мокрую тряпку. Я подумала, что мне никто не улыбался с такой добротой. Я хотела бы, чтобы она была моей, матерью и могла бы остаться со мной на ночь. Я даже не возражала, когда она сунула мне в руку теплое скользкое тельце.
— Девочка! — Она радовалась так, будто действительно была моей матерью. Потом женщина посмотрела на пустую постель в углу. — Тебе есть кому помочь? — Я кивнула, но она мне не поверила. — Что-то у тебя ни одежки для малышки, ни даже одеяла. Ты вообще готовилась? — Она указала на мою грудь, где беспомощно возился младенец. — Да ты ей сосок дай, она его ищет.
Я смотрела в потолок и не двигалась, ничем не помогая ребенку. Нагнувшись, повитуха схватила мой сосок и сунула его в ротик ребенку. Больно было чертовски.
— Какая хорошая девочка, а? Ну все, сейчас больше ничего не надо. Вы обе поспите пока, но завтра я первым делом вас навещу. Держи ее поближе к себе, чтобы не замерзла.
Я подождала, пока она не уйдет, и оторвала от себя ребенка. Сосок растянулся, она с чмоканьем выпустила его из губ. Повитуха оставила мне одеяльце с неровным краем, как будто оторванное от большого одеяла, и велела заворачивать ребенка в него, пока она не принесет что-нибудь получше. Я запеленала ее так, как папа делал с другими детьми, — обмотала вокруг ножек и прижала ручки к бокам. Глаза у девочки были закрыты, она не шевелилась — то ли осоловела после еды, то ли умерла. Я потрогала ее, не понимая, почему ничего к ней не чувствую, — во всяком случае, не больше, чем чувствовала к комку в животе. Когда она задергалась, я подумала только, что мне повезло меньше мамы и я не родила мертвого младенца. Я положила ее на кучу маминых нижних юбок и отвернулась. У меня совсем не было сил, и комната плыла перед глазами.
Спала я урывками, меня то и дело будили требовательные крики ребенка. Иногда он начинал ворочаться, выпрастывал ручки, хныкал и шуршал, потом засыпал. К полуночи мне уже хотелось вылезти из собственной кожи.
В том, что случилось дальше, я виню пожар, сгоревших девушек, уход отца и все смерти, которые я пережила: матери, своих братьев и сестер, лежащих в земле. Смерть занимала во мне столько места, что это было совершенно неизбежно. Или я просто слишком хотела спать.
Посреди ночи, когда девочка опять закричала, я просто сошла с ума. Не взбесилась, а перестала понимать, что происходит, как человек, который слишком много времени провел в воде и не должен был выжить, но выжил. Я хотела только одного: чтобы крики прекратились. Мне не приходило в голову приложить ребенка к груди и снова позволить ему терзать мои соски. Я встала, натянула панталоны, надела платье через голову и застегнула пуговицы. Живот стал пустым и мягким, его дергали болезненные спазмы. Я надела пальто, взяла визжащего младенца, прижала его к себе лицом, чтобы заглушить крики. Девочка открыла рот и затихла. Ее головка дергалась у меня под рукой, пока я спускалась по темной лестнице и шла к доку на 26-й улице. Внизу живота пульсировала боль.
Я не знала, почему я иду туда, не знала, что я вообще делаю в темноте. Я понимала только, что должна уйти из этой проклятой Богом комнаты. А если прошлый раз посреди ночи я пошла именно сюда, значит, и в этот раз следовало сделать то же самое.
Здание оказалось тихим и темным. Теперь все рыдали над могилами, а не над открытыми гробами. Дождь прекратился, но звезды не вышли, воздух был холодным и влажным. В какой-то момент я посмотрела вниз, совсем забыв, что держу в руках ребенка, и только тогда поняла, что он мертв. В лунном свете девочка выглядела точь-в-точь как те младенцы, которых я клала в землю. Она не двигалась и не дышала, и я смотрела на нее, не понимая, что же делать. Тут не было земли, чтобы вырыть могилу. Не было ямы, чтобы положить ее туда. Я обошла здание и подошла к Ист-Ривер, над которой нависал док. Вода лизала борт парохода. Пахло рыбой, и из-за этого запаха я помедлила, прежде чем выбросить сверток в реку. Послышался тихий всплеск, и капля воды попала мне на руку. Показалось, что я услышала какой-то тихий звук, но, посмотрев на воду, я увидела спокойную черную поверхность, будто ничего не произошло. Я сказала себе, что ничего не слышала. Но я слышала. Я до сих пор это слышу.
Нужно было броситься в воду вместе с девочкой.
Я так и не поняла, почему я этого не сделала. Все девушки, которых я видела в огромном морге, пережили младенчество и детство только для того, чтобы выпрыгнуть из окна, спасаясь от раскаленной смерти, и попасть в асфальтовые объятия другой смерти. Жить не стоило. Смерть в темной воде стала бы благословением, но я ничего не чувствовала. Я отвернулась от воды и тупо подумала, что теперь, без ребенка, я могу вернуться к Марии. Никаких доказательств существования младенца, кроме моего обвисшего живота, не осталось.
Было тихо и темно. Я слышала плеск воды. Пахло смолой и гнилой рыбой. И ни одного человека вокруг. Я побежала прочь, думая, что выгляжу довольно подозрительно. Я не знала, сколько теперь времени, но все равно не могла заявиться к тетке Марии прямо сейчас. Она бы поняла, что что-то не так.
Не зная, куда идти, я вернулась к себе и упала на кровать. Я лежала там в звенящей тишине, испытывая отвращение ко всему, что меня окружало. Я ненавидела эту комнату и вспоминала о своей кровати на чердаке и о крошечной комнате, в которой храпела Мария. Я вдруг поняла, что утром придет повитуха и мне придется объяснять, куда делся ребенок. Ужас моего поступка заставил меня встать и запереть дверь. Я прижалась лбом к мягкой ткани маминого платья, а потом снова легла, но не смогла заснуть. Меня всю крутило и дергало.
Наступило утро, слабый свет стер тени со стены, мамин призрак на двери оказался всего лишь ее платьем. Послышался стук в дверь, и кто-то подергал ручку с той стороны.
— Сигне, я принесла тебе завтрак, — тихо позвала миссис Хатч. Наверное, чтобы не разбудить ребенка.
— Спасибо. Оставьте его, мне нехорошо, — отозвалась я.
— Ну понятно. Повитуха телефонировала, что ее вызвали на другие роды и она сегодня не придет. Но завтра с утра забежит первым делом. А пока вам обеим нужны еда и тепло. — Она помолчала. — Тебе тепло? Ребенок берет грудь?
За ночь мои груди будто бы превратились в камень.
— Да, у нас все в порядке, спасибо.
— Ну и хорошо. Ты поешь, а потом я заберу поднос.
Я с трудом встала. Воздух вокруг дрожал и гудел. Когда я в последний раз ела или спала? Кажется, ночью перед похоронами.
Быстро и тихо я забрала поднос и снова заперла дверь. Заставила себя поесть. Яйца всмятку проскочили хуже сухого тоста, усыпавшего постель крошками. Холодное молоко освежило меня, и я вспомнила старую Мэнди и ее грустные задумчивые глаза. Жива ли она? Сколько вообще живут коровы?