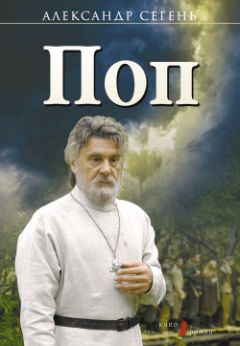– А теперь о главном, Коля. Ты знаешь, что мать наших Саши и Миши убили в сорок первом году партизаны.
– Ну?
– Тяжко мне.
– Больно?
– Нет, говорить тяжко. Сейчас.
– Не спеши.
– Это я её убил.
– Вы, дядя Лёша?!
– Я, Коля. Почти нечаянно. Хотел припугнуть, да… Я отцу Александру когда-то уже исповедовался в этом. Теперь и ты знаешь. А вот надо ли, чтоб и они знали, это ты сам решишь, батюшка Николай. Ещё я казнил вместе со всеми одного священника, но тот был настоящий враг, любил немцев и служил им, как собачонка. Но тоже каюсь в этом грехе. В нём я отцу Александру тоже каялся. И тебе каюсь. Вот такой был ваш воспитатель, Коля. Что поделаешь? Простите меня. Война всех озлобляла. А отец Александр возвращал к доброте. Что мне будет, как ты думаешь? Ад?
– Господь милостив.
Луготинцева похоронили на кладбище возле храма Александра Невского, под куполом которого он некогда прятался от немцев. Все, кроме Евы, на похоронах плакали, особенно дети Луготинцева, Маша и Толя.
Через год художник-реставратор Александр Ионин нашёл для Евы место в Москве, и она переехала с двумя своими детьми в столицу. Некоторое время даже работала секретарём в Верховном суде, потом на других хороших должностях, в основном – секретаршей при посольствах, вторично вышла замуж, была счастлива, хотя больше ей детей Бог не дал. Умерла Ева в конце восьмидесятых от рака крови. До последних дней была она постоянной прихожанкой храма Святителя Николая Чудотворца в Хамовниках, замечательно пела там в хоре, перед смертью исповедовалась и причастилась, много прихожан храма пришло на её похороны.
Дочь и сын Евы выросли благополучно, окончили университет и работали в журналистике. Маша уехала в начале девяностых годов на постоянное жительство в Израиль, хотя долгое время ей трудно было доказать необходимое происхождение своей матери. Анатолий в годы перестройки тоже нашёл своё место в жизни, активно работал в антифашистском комитете, писал статьи о русском фашизме, о том, что Россия всегда была самая антисемитская страна в мире, что русские в годы войны с удовольствием помогали немцам истреблять евреев, что, победив в войне, они тем самым оказали огромную услугу главному антисемиту всех времён и народов – Сталину.
Когда американская авиация зверски бомбила Сербию, кто-то из друзей, увидев на экране хищное лицо Мадлены Олбрайт, спросил:
– Толь, а ты мог бы как эта? Отдать приказ разбомбить тот дом, в котором прятали твою мать?
– Годы войны моя мать вспоминала как сплошной кошмар. Дом, в котором она провела самые страшные годы своей жизни, я лично разбомбил бы с удовольствием! – ответил Анатолий Луготинцев, не моргнув глазом.
Хорошо ли, плохо, а, в общем-то, хорошо сложились судьбы детей отца Александра.
Погибшие в годы войны пали смертью храбрых за Родину.
Отец Василий всю жизнь служил в Москве, а потом переехал в Тверскую область и там стал сельским батюшкой, очень похожим на своего отца.
Михаил, бывший всю жизнь художником-реставратором, на закате дней стал писать иконы и вошёл в число лучших современных иконописцев.
Его брат теперь сельский пенсионер, дед Саша.
Людмила родила троих сыновей и одну дочку, нянчила внуков, а теперь у неё уже и правнук имеется.
Виктор Ионин окончил морскую карьеру в чине капитана первого ранга, живёт во Владивостоке. Семья, дети, внуки.
Виталий до перестройки жил в Риге, но когда там начались гонения на русских, он, сам будучи по крови латыш, этого не вынес и с огромными трудностями переехал в Петербург. А дети его остались в Латвии, знают латышский и называют русских оккупантами, разрушителями европейской культуры.
Отец Николай после кончины отца Александра переехал из Москвы в Закаты, где и служит по сей день настоятелем храма Александра Невского.
Рано умерла Елена, служившая при храме, певшая на клиросе и при отце Александре, когда тот вернулся, и при отце Николае, когда тот сменил любимого батюшку. Она скончалась в середине восьмидесятых, так и не выйдя замуж, бездетная. Но на свою жизнь она никогда не жаловалась и была всегда, хоть и болезненная, а весёлая и со всеми ласковая.
Отец Александр Ионин отсидел в красноярских лагерях четырнадцать лет. Даже когда в 1956 году большинству членов Псковской Православной миссии была объявлена амнистия, отца Александра почему-то не спешили отпускать, задержав ещё на два года. Ему уже было семьдесят восемь лет, когда он, наконец, вернулся в Закаты. Накануне его возвращения в село пришёл другой священник бывшей Псковской Православной миссии, отец Николай Гурьянов. Пришёл тихо и сел на скамейке под сенью храма Александра Невского.
Отец Николай после войны служил настоятелем Свято-Никольского храма в селе Гегоброст в Литве. Потом – настоятелем Воскресенского храма в Поневеже, а с пятьдесят восьмого года стал настоятелем Свято-Никольского храма острова Залита на Псковском озере. Иногда он наведывался в Закаты, спрашивал, какие есть новости об отце Александре. А тут пришёл, сел и сидит тихо. Ждёт. Жёлтые листья падают ему на голову.
Его заметили, сообщили отцу Олегу. Тот пришёл вместе с дьяконом Геннадием.
– Здравствуй, отец Николай!
– Здравствуйте, хорошие мои!
– Что ты тут сидишь?
– А вот жду вашего отца Александра.
– Это верно, пора бы ему на свободу, но что-то пока нет известий.
– Как нет? Вон он идёт.
Глянули, и впрямь, приближается к ним некая тень. Тонкий, как истлевший листик, голова лысая непокрыта, волосы седые, и их совсем мало осталось. На нём ветхое пальтишко, штаны серые, чёрные битые ботинки. За плечами котомка. В руке – чемоданчик из фанеры. Трудно было и узнать в этой тени отца Александра.
Остановившись, он поставил чемоданчик на землю, сбросил с плеч котомку, встал на колени перед храмом и трижды перекрестился:
– Моли Бога о нас, святый угодниче Божий Александре, благоверный княже Невский, Отечества избавителю и сохранителю, солнце земли Русской, яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших!
Тут к нему подоспели все трое. Хотели помочь встать с колен, но он проворно сам вскочил, осеняя всех крестным знамением, смеясь и трясясь от радости:
– Здравствуйте, отец Олег, отец Николай, а вас не знаю.
– Дьякон Геннадий, – представил своего сослуживца отец Олег.
– Никак вы меня ждали?
– Мы и не чаяли, а вот отец Николай пришёл и сказал, что вы идёте.
– Отцу Николаю дано. Давайте же расцелуемся!
– Батюшка! Какой же вы тоненький стали, совсем как былинка!
– Что ж вы хотите! Восемьдесят скоро будет! Вот сколько жизнь меня обтачивала. Великий точильный камень! А я заострялся, заострялся. Вот от меня одна полоска и осталась. Теперь уж чувствую, приближается старость. Хочу храм посмотреть.
Он оглядел храм, в котором всё, слава Богу, оставалось почти так же, как двадцать лет назад. Забрался на колокольню, нашёл там нетронутый свой гроб и очень этому расчувствовался:
– Сберегли домок мой. Спасибо!
Он поселился в своём доме, бывшем доме Медведевых. Повидаться с ним съехались все Ионины. Повидались, наслушались милого батюшку, налюбовались им, да и разлетелись опять кто куда.
Отец Олег остался настоятелем, протоиереем, а отец Александр при нём священником.
– Старею на могилке незабвенной моей Алевтины Андреевны, – говорил он о своём житье-бытье.
Про лагерь сказывал так:
– А что ж, и там мне было очень неплохо. Особенно в последний год. Мне даже разрешили совершать богослужения в бараке. Начальство ко мне было благосклонно, я бы сказал, даже чрезмерно. До того меня любили, что никак не хотели выпустить, даже когда Хрущёв объявил амнистию. Меня всегда в жизни только хорошие люди окружали.
Отец Николай Гурьянов нередко приходил погостить в Закаты. Или отец Александр к нему на остров Залита. Вспоминали войну и больше всего любили говорить о Божьем промысле. Например:
– Вот ты смотри, отец Николай, в какой день они запустили в космос Гагарина. Не в какой-нибудь, а в день Иоанна Лествичника. Который написал «Лествицу». Лестницу в небо. Совпадение? Как бы не так. Божий промысел.
– Так у них и победа над Германией прямо на Пасху пришлась, а окончательная капитуляция – на день святого великомученика Георгия Победоносца. Всё-таки, они молодцы, как ни крути! Вот только лагеря эти… Сколько мук люди приняли!
– Ничего не бывает не заслуженно, отец Николай. Я вот тоже всё гневил Бога, выпрашивал себе мученическую кончину. Хотел в святые! Видал такого? А Господь мне вместо этого – извольте в лагерьке пожить двадцаточку. Да и то потом скостил Господь по милосердию Своему. А лагерь – он как будто монастырь с очень строгим уставом. Как у Нила Сорского. И ничего, выжил я и в лагере. Теперь вот на сладкое дал мне Бог тихую старость. Получите, отец Александр!
– Сталину бы лет двадцать в лагерях потрудиться, был бы и сейчас жив.