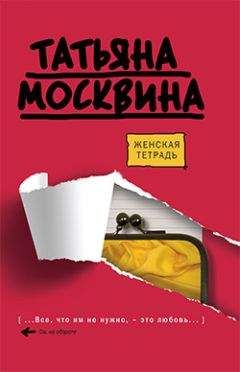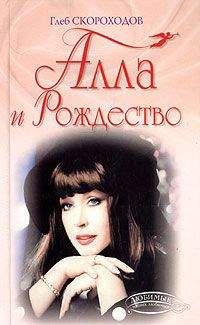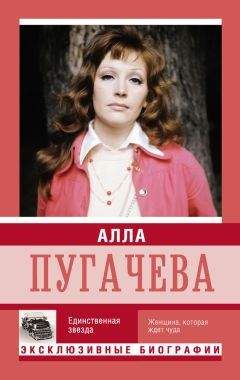Конец второго монолога.
Выходит ЖЕНЩИНА.
ЖЕНЩИНА. Вы, конечно, удивляетесь, как же так, столь ко времени играем – а где же о главном, где же о любви? Всё, приехали. Сейчас – только об этом и больше ни о чем. Я ведь тоже не вчера родилась. Я знаю, зачем женщины ходят в театр.
Песня третья. «Маленькая грустная песенка»
Ты спишь или пьешь,
В подвале ты или на крыше,
Кого ты надул опять, мой возлюбленный лжец, —
Зачем этот мир, где ты меня не слышишь,
Зачем этот мир – а, Отец?
Ты весел сегодня,
Гулял ли с детьми и друзьями,
А весть от меня тебе принесли ль, наконец, —
Зачем этот мир, залитый моими слезами,
Зачем этот мир – а, Отец?
А солнышко светит
такими большими лучами,
И в райском саду – оп! – опять пара новых овец…
Зачем этот мир, где любовь утопает в печали,
Зачем этот мир – а, Отец?
Монолог третий. «Что-нибудь новенькое»
Вначале автор требует темноты и тишины. В этой глубокой и чем-то чреватой темноте и тишине звонит, тонко, но важно, как первый тенор, первый телефон. За ним второй, побасистей, поувесистей. А за ним и третий. К ним присоединяются четвертый, пятый – у каждого свой норов, свой голос. Еще, еще… А вот и радиотелефоны подтянулись со своей идиотически-жизнерадостной булькающей музыкой – тут и Бах, и Бетховен, и Моцарт, да тут целый оркестр из телефонов, вся планета гудит, звенит, спешит на свидание! «Это я, я, я, я!»… И опять тишина.
Номер в провинциальной гостинице. Утро. Здесь мы видим женщину средних лет. На полу валяется раскрытый чемодан, а на столике стоит старый, видавший виды телефон.
ЖЕНЩИНА (разбирая чемодан). Господи. Зачем я столько платьев притащила. Куда это, не понимаю. Правда, я в такой лихорадке была, покидала все подряд в чемодан – и бегом на поезд. (Смеется.) Да, девушка, веселую жизнь ты себе испекла! Это в тридцать семь лет – бегом на поезд! А куда же он мчит нас, этот поезд, где пассажиры кушают картошечку, а кому повезло, тот и вареную курочку… а одна пассажирка ничего не кушает, на вопросы не отвечает, а едет себе в город по имени Славск? А мчит нас поезд навстречу судьбе!
Сколько во мне до сих пор дури-то сидит. Когда ж я успокоюсь. (Разглядывает телефон.) Какой телефон противный. Это шестидесятых годов дизайн. Пластмасса «под слоновую кость». Из нее еще ручки у ножей-вилок делали. На радиоприемниках тоже… В старой квартире у меня был телефон – «под слоновую кость».
И ничего хорошего по нему не звонило. Слоны – не помогли… А тут радио есть? Не работает. Господи, а вдруг телефон тоже не работает! (Бросается, снимает трубку.) Вроде гудит. Какое все-таки убожество эта гостиница. Ну, впрочем, не все ли равно.
Нет, не все равно. Давит на меня убожество. Кажется, даже стены презирают меня, точно старые полинявшие тетки. И телефон похож на дряхлого злого пса. Словно говорят они мне: а, попалась птичка. Да. Птичка попалась. Птичка загремела под фанфары. (Смеется.) Ну и что? Какое ваше дело? Что вы тоску на меня нагоняете – дескать, видели мы – видели, видели-перевидели. Таких птичек вы еще не видели! (Кружится по номеру, напевая.)
Надо же, надо же, надо ж такому случиться,
Надо же, надо же, надо ж так было влюбиться,
Надо бы, надо бы, надо бы остановиться,
Но не могу, не могу, не могу, не могу…
Не могу и не хочу.
Да, вот уж правда так правда – не могу и не хочу… Значит, в три часа. В три часа. Он сказал – позвоню в три часа. Я думаю, что вот, значит, если я как-нибудь сильно так нагрешу… хотя сильно разве у меня получится? Ну, допустим, вдруг получится. Я, значит, попаду в ад. Буду я в аду, вот в таком я буду аду: буду сидеть и ждать, когда он позвонит. Какой-нибудь он. Или именно этот он?
Наверное, я всегда любила одного и того же человека, только он менял имена и обличья. А потом исчезал… То есть я думала, что это он, а потом оказывалось – нет, совсем не он. Потому что он… настоящий, правильный он – он не мог бы меня так предавать. Нет. Никогда. Нет. Я верю в это – или все трын-трава. А человек не имеет права думать, что все трын-трава, иначе у него душа покрывается мхом, а глаза зарастают болотной тиной, тяжелой, угрюмой тиной… нет, есть и весельчаки в этом роде… дзинь-ля-ля, трын-трава… Ошибки быть не может. Это он. Наконец-то – он. Увидела и поняла. «Вспомнила тебя душа моя!» Кто это сказал? Кто из мудрецов земли? Они всегда предупреждали нас, этот мир – что-то вроде зоны, исправительно-трудового лагеря для заблудших душ. Но я, наверное, исправилась. Я нашла его. Я сразу подумала: он. А он подумал: она. В одно мгновение.
Женщины любят перебирать свои воспоминания, точно драгоценности. Или безделушки. Я и умирать буду – прикажу подать мне это мое воспоминание. Как мы стояли среди пьяных бездельников и говорить даже не могли. Нет, конечно, мы что-то говорили, но по-настоящему мы говорили не о том, о чем говорили. Настоящий наш разговор был такой: «Это ты, что ли?». – «Да, это я». – «Господи, что теперь делать!» Смешно, я ведь не хотела идти, я ж не ходок по всем этим презентациям. Ленка уговорила. Такая, значит, компания, такие мужики, ты что, на себе крест поставила, самый возраст… Ленка, Ленка ты моя неугомонная, есть же на свете люди – легкие, как снежинки. Хорошо им, наверное, и с ними хорошо. Ленка, по гроб жизни тебе обязана.
В три часа, в три часа, в три часа. А сейчас – десять. Это значит – пять часов еще. Накраситься, одеться – на все про все полтора часа за глаза и за уши. Пять часов! Я свихнусь, точно. Как в девяносто третьем году. Нет, девяносто третий надо забыть, совсем забыть, никогда не вспоминать. Сколько я тогда курила, ужас. Почернела вся. И зачем так распадаться, не понимаю! Кому нужна обезумевшая баба, которая на всех орет от воспаленных нервов, вечно в дыму, в чаду… А как бы оно было чудесно: вот влюбился сдуру и – воспарил. У Шварца в пьесе «Обыкновенное чудо» волшебник утверждает: «Влюбляться полезно». Значит, начинаешь бегать по утрам, пить морковный сок, учить немецкий язык… самоусовершенствуешься! Ага. Полезно. Счас. Одна и та же петрушка: рыдания, стоны, «я не могу без него жить!», носишься по квартире, надоедаешь всем друзьям, пьешь, разумеется, никакой не морковный сок… как же мне это все надоело-то… Нет, больше этого не будет. Вот же я два часа на ногах – и ни одной сигареты. Никакого распада! Глаза на восток! Там заря новой жизни!
В три часа. Так. Надо чем-то заняться. Так. Что же мне надеть? Вопрос серьезен. Вопрос страшен, вопрос грозен.
Может, серое платье? (Надевает серое платье.) Строго, прилично. Интеллигентная дама в поисках счастья, но без претензий. «Как здоровье ваших родителей?»… «Где вы отдыхали в прошлом году?»… «О, я понимаю…» – и тут скромный нежный смех (смеется) – что-то не очень скромный получается. (Смеется.) Разве так попробовать… Нет. Серое платье невезучее. Серое я сделала в девяносто шестом, а в девяносто шестом… Так, девяносто шестой надо забыть, забыть и не вспоминать… Тогда синее, да, лучше всего синее. Синее платье везучее. (Надевает синее.) Я в нем тогда, на презентации-то, и была. Хотя, может, не стоит в одном платье всю дорогу выступать? Правда, мужчины обычно не очень-то обращают внимание на одежду. Только если уж что-нибудь выдающееся по безобразию. Черт их знает, на что они обращают внимание. Зло берет иногда: да почему это я и душа моя бессмертная должны зависеть от чьего-то внимания? Пропади оно пропадом. Все равно живешь-то внутри себя, сам с собой. Главным образом. Не обращают внимания – и на здоровье. Конечно, мне грех жаловаться. Помню, мне один старичок смешно сказал: «Вы – незабываемая женщина!» Правда, это десять лет назад было.
Значит, синее. Романтично, завлекающе. «Я, право, не ожидала»… «Пожалуй, мне хочется моря. Моря – и тишины»… «Разве… разве это возможно?» – и опустить глаза. В глазах должен быть тайный жар. Явный жар может оттолкнуть. А если… взять да и рискнуть, а? Взять да и надеть – красное! Красное-прекрасное. (Надевает красное.) Да, это сильно. Сильно и тревожно. Будто вызов или призыв. Вот она я! Бери меня насовсем и навсегда! Хочешь такую? «Ты сам знаешь почему»… «Я не умею ждать!»… «Да, да, да, черт возьми, да!!»
Да, а он возьмет и перепугается. Подумает, блядь какая-то навязалась. Подумает, хлопот с нею не оберешься. Тоже, подумает, пожар в сумасшедшем доме эта дамочка. На пенсию скоро, а она в поезда прыгает. Лягушка-путешественница. Нет, только не красное. Потом разве. Сейчас нельзя. Нет, синее, синее, решительно – синее. Один раз повезло – может, опять вывезет. (Переодевается в синее.) И к нему платочек, синенький скромный платочек. Падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь… Жуть, какой противный телефон. Господи, работает он? (Бросается к телефону.) Гудит.
Совершенно не понимаю, что такое телефон. И как они так все устроены… какие-то провода, мембраны, порошки… набираешь цифры, и вдруг – голос. Ничего не понимаю! И про электричество я ничего не понимаю. Что такое за зверь это электри-чест-во. И почему машины едут, и самолеты летают, ничего… совсем ничего… мне уж и объясняли, и сама училась кой-чему… и все мимо, мимо… Живу в мире, который абсолютно не понимаю. Да что там мир! Вот у меня там внутри есть сердце, печень, желудок… туча всякой всячины… я разве понимаю, что это такое и как оно работает? А ведь это – я. Это – мое устройство. А душа? Где она живет? В каком месте? Как выглядит? Откуда взялась? Куда потом денется?