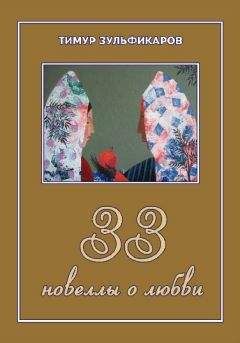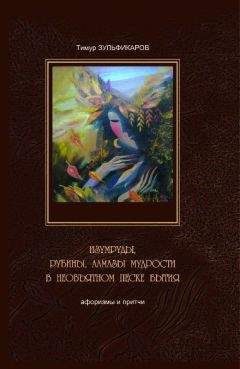Ах, куда, куда, куда ты улетаешь… однодневка порхающая…
Когда жить тебе так мало, мало, мало, бабочка…
Иногда Фатя прыгает на низкий глиняный дувал — и вешний ветер вечный пастух, жених девственниц — её обвивает, обнимает, облегает, опьяняет…
И на ней короткое — до жемчужных колен — алое бархатное платьицеоблачко…
А на вёрткой птичьей блаженной её головке полыхает золотом златошвейная кулябская тюбетейка, из-под которой змеятся вьются двенадцать мелкозаплетённых курчавых косичек…
Ах… а на ногах у неё материнские лаковые малиновые туфельки на высоких каблуках…
Дети любят носить родительские одежды…
Туфельки велики ей — и она сладко зачарованно блаженно стучит бьёт по земле каблуками, то выпадая вылетая из туфелек — то гибко возвращаясь качаясь удерживаясь в них…
Ах, вот оленёнек Яшка бухарский сиротка весёлый опьянённый носится прыгает скачет по юной нежной травке дворика-хавли…
И прыгает на дувал и скачет по дувалу вместе с Фатей…
Но…
Но потом Фатя срывается с дувала и подбегает ко мне и шепчет, шелестит мне на ухо таинственно, горячо, щекочуще:
— Дядя Тима… поэт… я люблю вас… больше, чем папу и маму…
И косички её трогают лицо моё…
И она убегает… качаясь виясь на малиновых лаковых неверных туфельках… как нежный дымчатый прутик ивы на вешнем ветру… прутик… стебелёк пугливый…
И на детском личике её — недетская мука, страданье…
Это от тайной первой больной любви…
И мне до слёз жаль её… Жаль мне её раздирающе…
Спелый ветер раннего созреванья за одну ночь наливающихся скороспелых вишен уже коснулся и её…
О Боже… Рано… рано… рано…
Пожалей раннюю раненую первоцветущую душу её… душу подросточка-подранка…
И оленёнок Яшка подбегает ко мне вослед за ней и лижет мне ухо…
И дышит сладко, нежно…
И словно тоже хочет что-то шепнуть мне, да не может…
О Боже…
Что же будет с нами, с весёлыми, со счастливыми, с радостными?..
Что-то мне страшно от нашего счастья…
…И вот соседи весёлые щедро разгульно пьют гранатовое вязкое дремное шахринаусское вино и едят младой свежебараний дымный томный плов… с иранской зирой и афганским перцем, что горит жжет как зороастрийцев священный огонь…
И от вина, и от ветра вешнего, и от плова дымносладкого, и от перца афганского, и от любви необъятной человеческой и божественной — все смеются, и обнимаются, и целуются, и плывут, текут, как ручьи весенние, и родными неразлучно становятся…
И склоняются друг к другу… и сливаются друг с другом…и друг другом становятся…
О Боже! Ах, Боже!.. О Господь мой, разве не о такой любви говорил и говоришь Ты?..
Но я чую — что-то страшное назревает, надвигается, готовится… как вешняя ливневая туча за горой…
Ах, дворик, ах, домик, ах, вешний струящийся на окраине безвинного, беззащитного моего Душанбе, на окраине моей спящей невинной, беззащитной, беспомощной Родины…
Открытой, безвинной, как люлька ребёнка…
Уже обреченной…
Уже тайными короедами жуками бесами червями нутряными приговоренной…
О Боже…
…Тут мимо домика весёлого проезжает на древнем осле тысячелетний мудрец Ходжа Насреддин…
Он всегда проезжает там, где царит дух веселья и любви и вина
Он всегда проезжает там, где царят несчастья и беда
Он всегда проезжает везде и близ всех… да!..
Он останавливается у домика, где праздник, и шепчет печально:
— И вот в Кремль пришёл Горбачев… Пришёл тать на русский брошенный беспомощный трон… На троне вор — в стране мор…
О Боже… Что ж Ты попустил… за что? за что?
О Боже…
…И вот уже Ахрор — художник, певец, апостол горных алмазных водопадов и хрустальных родников от меткой братской затаённой пули падает в родник, в хрусталь родника и…
И хрусталь течет, туманится, клубится ранней клубникой, как рубин, как гранат от крови его, и он, он шепчет, улыбаясь, смеркаясь:
— Ах, писать, окуная кисть в собственную кровь!.. искусство выше жизни…
Искусство вечно, а жизнь — смертна…
Ах, Аллах! Аллах дай мне успеть написать, как этот родник-хрусталь стал родник-рубин, стал родник-гранат… да не успею… да пуля слишком метка… кровава… близка… родная пуля таджика-брата…
…И вот уже Анастасия-Настя в павлиньих одеждах бредёт по ночным сиротским, пустынным улицам гражданской войны и ищет мужа своего с гранатовой неоконченной картиной его…
Тогда ночные джигиты с ночного ледяного горящего танка спадают, и бегут к ней, и совлекают, снимают с неё безвольные оцепенелые расписные, райские, павлиньи, фазаньи, шуршащие одежды её, как умелые хозяйки неслышно хищно ощупывают ощипывают кур… как дети бережно снимают прозрачную кожицу с персика…
— Айх! зачем жене одежды, когда вся сила её в наготе её?.. — шепчут мудро они и от них пахнет кровью и анашей… а потом — семенем кипучим испуганным безбожным… — Ах, жены — наша одежда, а мы — их… да…
Тогда Анастасия нагая порушенная, но не поруганная тихо властно идёт к ночной бешеной реке Варзоб-дарье и входит в лёд волн и шепчет в цепенеющих волнах:
— Ахрор, я иду, плыву к тебе… я стала вечной рекой… А ты — вечным родником…
Теперь навек сойдёмся, сольёмся, муж гранатовый мой…
И к Богу пойдём… поплывём… Я так устала на земле…
Я отдыхаю, я простираю, разбрасываю вольно руки в воде, как распятая…
Русские люди любят уходить с земли распятыми… Как Спаситель наш…
Ааааааа…
Но что будет с девочкой нашей… с Фатей…
Ах, зачем я ухожу… уплываю…
Но Ахрор ждёт меня…
И она пыталась выйти из реки, но лёд волн сковал взял её… и материнскую любовь её…
…И вот в Кремль пришёл Горбачев…
И вот тать сел на русский тысячелетний трон… где раньше сидели возвышались великие цари: Иоанн Грозный, Пётр Первый, Екатерина Вторая… Николай Первый, Александр Третий, Иосиф Сталин…
И вот на троне — вор, в стране — мор…
…И вот соседи Ахрора поели плов и окружили красавца-артиста Анвара Ассаргадона с вечной бутылкой шампанского в холёных перстах, которыми он лелеял, пас, ублажал дев и жен, и в руках у них выросли скользкие дрожащие автоматы, и они сказали:
— Ты, Анвар — артист? лицедей? ты мусульманин? ты зачем пьёшь вино?
И развращаешь, смущаешь своим талантом и своей трепещущей красой чистых горных родниковых нетронутых людей?.. И гладишь чужих дев и жен?..
Не бойся, артист! Мы только разобьём расстреляем твоё вино… вино… вино греха… вино плоти…
И они стали стрелять в бутылку шампанского, но они пьяны были и много пуль ушло в Анвара Ассаргадона, но он долго не верил, и долго не падал, потому что не хотел он, чтобы Фатя увидела смерть… рано еще ей… рано девочке видеть не любовь, а смерть…
Но потом он из последних сил убежал из дворика-хавли за дувал и там умер, истёк, исшёл с радостной улыбкой, потому что Фатя не увидела его гранатовую текучую обильную смерть…
О Боже! за что?..
…И вот оленёнок Яшка мечется по дворику и джигиты пьяно косо алчно сладострастно стреляют в него и хохочут, потому что не могут попасть в него… пули пьяные мимо ходят…
И он забивается под куст ширазских гранатовых чашеобразных невиданных неслыханных роз, роз, роз…
Розы текут пьянят благоухают медово, бредово, бездонно…
Такие розы цветут только в шахских дворцах, дворах — но вот шахов, царей на земле не стало, а розы царские остались…
Скучают, тоскуют они по царям… в век овец и феллахов…и братских пуль… и соседских смертельных родных автоматов…
А пьяные пули бьют в розы, и летят лепестки, и от пуль розы благоухают еще гуще… еще слаще…еще тревожней…
А поэты слаще поют при смерти…
Тогда поэт Тимофей Зульфикар устало прикрывает телом своим оленёнка и говорит стрелкам пьяным, как ширазские розы:
— Братья… стреляйте в меня… я уже жить устал и хочу уйти к отцу и матери и многим возлюбленным друзьям моим… там не убивают людей… там не стреляют в ягнят оленят…
Я хочу к Богу уйти, а Он не на земле, а в небесах…
И всё дальше уходит Он от нас… когда мы убиваем друг друга…
Когда мы расстреливаем царские розы…
Зачем поэту — певцу роз — жить, когда расстреливают розы?.. Вначале мы убили царей… Теперь убиваем розы… а чт’о поэты — без царей и царских роз… песок…
Тогда они говорят:
— Поэт, а ты напиши поэму о расстрелянных царях и розах… Мы оставим тебя живым, чтобы ты написал и о нас в вечной поэме своей… Ты вечный, и мы станем вечными… Палачи и жертвы связаны вечно…