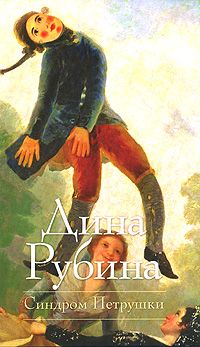– Знаете что, Гарик… – О, сегодня она была в ударе… Стоит лишь удивляться, что я, ее внук, в быту крайне редко прибегаю к тому ряду слов, который иногда очень хочется из себя выплеснуть.
География в этом зале была представлена богато: Марокко, Йемен, Ирак, все созвездие постсоветских стран, Америка и даже Новая Зеландия. В последнее время, с приездом в страну большого числа французских евреев, появились здесь и две старушенции с хорошим маникюром, кокетливыми стрижками, каркающими голосами.
За нашим столом, кроме незабвенной бабуси, сидели: Ширале, кроткое создание восьмидесяти шести лет, бывшая узница Биркенау, с изрядным Паркинсоном и в полной прострации; Клава, девяностодвухлетняя чья-то русская теща, в ясном уме и с юдофобией такой неистовой силы, которая держала ее на плаву, бодрила и не давала спасовать перед возрастом; четвертой была заслуженная учительница Белорусской ССР Маргарита Витальевна (она подчеркивала отчество и не позволяла никому, даже Махмуду, не выговаривающему более двух русских слогов, называть себя, как порывался он, – «Марой»). Маргарита Витальевна была еще ого-го, ходила сама, опираясь на палочку, помнила школьную программу. Навещали эту абсолютно одинокую старуху две ее выпускницы шестидесяти восьми лет, которых она нещадно гоняла и жучила. Она враждовала с Клавой до того, что несколько раз их даже рассаживали по разным столам. Но положение нашего стола – у самого окна, над широкой панорамой городка и пустынных гор – считалось самым выигрышным, за место это сражались, так что заслуженная учительница стучала на Клаву – буквально, металлической кружкой по столу, – а та посыпала ее «жидами и масонами», ничуть не смущаясь, что и сама волею судеб вынуждена закончить дни в жидомасонском приюте.
После того как незабвенная бабуся послала Гарика по известному адресу, Клава проговорила твердо и ясно:
– Вот это наш человек.
– А иди ты в… – энергично отозвалась Вера Леопольдовна. – Я тебя погоню без выходного пособия! Не акушерка ты, а манда собачья!
– Так, бабуся… – Я вытер ей салфеткой подбородок и усы и решительно взялся за ручки кресла. – А теперь мы погуляем…
Тяжелый кус ее праздничного торта так и остался на тарелке, и, отъезжая, я видел, как с двух сторон к нему ринулись Клава и Маргарита Витальевна, чуть ли не фехтуя вилками.
В эту холодрыгу я не рисковал вывезти ее на улицу; осенью она перенесла из-за одной такой необдуманной прогулки воспаление легких. Пришлось тормознуть в холле, под резными опахалами какого-то деревца в большой керамической кадке.
Я придвинул стул, сел напротив нее и взял в свои ладони ее крупную, по-прежнему властную руку. Властную не по силе, а по автономно от мозга существующей внятности движений. Усталый израсходованный мозг уже устранился от процессов, упрямо влекущих организм изо дня в день, а вот руки, руки, которые всю жизнь милосердно и проникновенно делали свое дело, все еще удерживали ясный образ и логику жестов существующего мира… Бог знает, скольким людям эта рука помогла увидеть свет. Например, лично мне, ее внуку. Мама рассказывала: когда она, лопаясь по всем швам, играла зорю последним петушиным криком, бабуся, точно так же взревывая, кричала: «Давай, давай!!! Макушка показалась, можно шляпу надевать!!!»
И неизвестно отчего: то ли в ответ на прикосновение родных рук, – иное, нежели прикосновения сестер и санитаров, – то ли по иной какой-нибудь причине (когда это станет понятным, тогда и деменцию научатся лечить), – что-то произошло там, в глубине угасающего мозга. Ее сизые от времени глаза мигнули, обернулись ко мне, и вдруг она проговорила:
– Боба, что ж ты, гóвна, не появлялся полгода?
Само собой, я тут появляюсь каждую среду – у меня это более или менее свободный день, – но до известной степени бабуся права: ведь последние полгода она сама подменила меня неизвестным мне Гариком, балбесом и неумехой.
– Папа в командировке? – услышал я и, радуясь, что она, по крайней мере, вернулась в семью, торопливо ответил: «Да», – мельком подумав, что из своей бессрочной командировки папа глядит и, вероятно, удивляется живучести своей потрясающей матери.
– Знаешь, кто меня тут часто навещает, – спросила она, – в этом санатории?
– Кто же? – терпеливо осведомился я, следя за тем, чтобы логическая ниточка разговора вилась, не прерываясь: это ведь замечательно, когда на вопрос следует ответ. Это уже, можно считать, великосветская беседа.
– Глупая Бася, – доложила она.
Я вздохнул и покивал. Не узнавать собственного внука, которого вырастила и с которым не расставалась никогда, и вдруг вспомнить давно умершую старуху, что стирала по людям в городе Львове сорок лет назад.
– Глупая Бася, она – ангел. Она настоящий ангел, я ей это всегда говорю. Она мне чисто стирает. Никто так чисто не стирает, как Бася… – Обеими руками она приподняла полы вязаной кофты, под которыми виднелась мужская майка на святых мощах: – Смотри: загляденье, а не стирка. И крахмалит, и подсинивает… Я имею достойный вид.
– О’кей. Расскажи-ка мне, что ты сейчас ела на ужин.
– Никакого ужина тут не дают! – крикнула она. – Фашисты! Я не ела пятеро суток.
– Тихо, тихо, не скандаль. – Надо спросить у Тани, не забывают ли ей давать транквилизаторы. И не стоит ли увеличить дозу.
Но она вдруг успокоилась и умиротворенно проговорила:
– Вы, Гарик, мальчик способный, но еще маленький для плацента превиа. Давайте-ка я сама помоюсь…
После таких призывов она пытается приподняться в кресле и вполне могла бы сверзиться на пол, если б их не привязывали.
– Спокойно, Вера Леопольдовна, спокойно. Скоро все пойдут мыться.
Кто-то из посетителей включил телевизор. По огромному экрану забегали футболисты в синих и желтых трусах. Я развернул кресло, и минут пять бабуся с большим удовлетворением разглядывала бегущих и потрясающих воздетыми руками бугаев. Еще минут десять, и я, пожалуй, отвезу ее в палату: скоро санитары приступят к вечернему туалету и укладыванию стариков на боковую.
– Бегут как на пожар… Стремительные роды привезли… А! Вон сидит Глупая Бася! – Вытянув руку, бабуся показала на трибуны. Значит, там, в мозгу, невидимый шпенек угодил на невидимую бороздку под названием «Глупая Бася». Тут уж пиши пропало: оставшееся время мне придется слушать только о ней.
– И что там Бася? – поправляя воротник ее кофты, слишком широкий для морщинистой цыплячьей шейки, спросил я светским тоном.
– Она выводила из гетто еврейских детей, – вдруг повернулась ко мне бабуся. – И переправляла их митрополиту Шептицкому. Тот их распределял по монастырям, они там выживали… Говорю тебе – она ангел, она – святая. Но ужина тут не дают!
Хм… интересно. Кто еще говорил мне об этой стороне жизни тихой старухи? Нет, не говорил, а… я читал, что ли… Вспомнил: Петька. Именно он писал о Басе в том своем единственном письме, написанном в метельной сахалинской неволе.
– Бабуся, а ты Петьку помнишь?
– Ха! Петьку? Чего его помнить. Он ко мне каждую неделю бегает.
Отлично. Значит, теперь я буду, по крайней мере, не Гариком, а Петей. Это уже прогресс.
– Он женился на покойной жене Вильковского, – вдруг проговорила она совершенно ясным голосом, да еще заглянула мне в лицо, требуя согласия. Обрывки, лоскутки минувшей жизни плыли, цепляясь друг за друга и крутясь, как сухие листики в полноводной луже.
– Как это – на покойной жене? – спросил я. – Что ты такое придумала… Он женился на дочери Вильковского. На до-че-ри. На Лизе.
– Да. Потом уже ее звали Лизой… Я отказалась ей делать аборт, – сварливым тоном продолжала она. – Как это так? Одну похоронили, другая – делай ей аборт. Что за бардак? Он что – персидский шах, иметь двух жен? Вот поэтому одна из окна – прыг! Другая – ф-р-р-р! – улетела. Улетел воробышек, а в матке – зародышек. Подлец этот Тедди. Персидский шах…
Я почувствовал онемение в затылке, будто меня долбанули по голове дубиной.
В холле стоял ровный шум футбольных трибун, поверх него звучали обрывки разговоров. Я замер, боясь тронуть эту пластинку, эту безумную иглу на стершейся дорожке, ветхие куски истории, которую она хранила в себе так много лет, что выцвели все буквы, а то, что осталось, невозможно прочесть, невозможно постичь – все выглядит бредом.
Но рассказанные мне доктором Зивом жизнь и смерть молодой женщины, жизнь и смерть, которые до утра я запивал неразбавленным виски на своем затопленном смертной луной балконе, так глубоко меня разбередили, что и промолчать я не мог.
– Людвика… – негромко проговорил я, стараясь не вспугнуть тени в заплесневелой затхлой памяти. Так вор, забравшийся в темный дом, прижавшись к стене, следит за спокойными передвижениями слепого хозяина. – Вторую звали Людвика, Вися. Младшая сестра.
– Черт их разберет, сколько их там было…