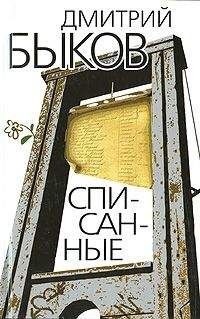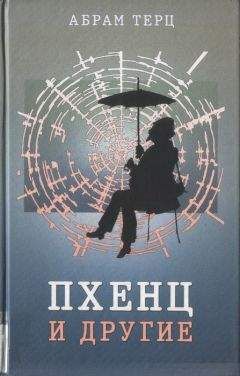— Кто же?
— Валя Голикова.
Свиридов заметил Валю Голикову давно — она смотрела на него с тихим обожанием, и он уже было возгордился, — но Валя была, так сказать, не совсем в его вкусе. После Альки он тосковал, но не был еще готов снисходить до Вали. Маленькая, кучерявая, худая, вздернутый нос, круглые карие глаза — если б ею заняться, приодеть, была бы вполне, но ей было словно не до косметики, не до форса вообще. Она кем-то работала в американском фонде по содействию детям с врожденными патологиями, благотворительная организация, один раз прикрытая в прошлом году и восстановленная под новым названием; тогда взялись закрывать все иностранное, благотворительное и неправительственное, приняли драконовские правила регистрации, все дела, — но их не прикрыли, спасли связи наверху и заступничество самого Филимонова, титана ельцинских времен. Может, за то и в список угодила.
— Валя? — изумился Свиридов. — С каких щей?
— Очень просто. В любом сообществе лидер кто? Вот по-вашему?
— Все зависит.
— Ничего не зависит. Вы же сценарист, должны знать. Я химик, и то знаю.
— Ну делитесь.
— Побеждает тот, — назидательно сказал Соболев, — кто дает лестную идентификацию. Один говорит — вы лузеры, второй — вы святые и великомученики. У кого больше шансов возглавить?
— У второго.
— Лыжники, догадался Штирлиц! — Соболев самодовольно ухмыльнулся в усы и обогнал еще один джип; водил лихо, даже и нагло.
— Ну, это не для всех сообществ. Только для уязвленных, вроде вот нашего.
— Для любого, абсолютно. Помните это мероприятие, в «Октябре»? С ветеранами спецслужб?
— Такое не забывается.
— Вот ровно той же природы. Ведь лузеры, в чистом виде. Все просрали. Не просрали бы — ничего бы не было. Надо ж не только диссиду хватать и спекулянтов ловить, надо придумывать что-нибудь, чтобы люди не закисли. Они и сейчас лузеры, даром что своих везде наставили. Это же случайно вышло, что их человек пролез.
— Ну уж, ну уж.
— Ладно, все свои. Ну и придумали потом аттракцион невиданной верности. Тоже лестный вариант. И эти — помните про крюк? Все удержалось на нас, как на крюке. Это почему? Потому что из всех остальных что-то получилось, они куда-то развились, преобразовались, — только эти остались, как были, потому что ничего другого не могут. Только мешать всем, у кого хоть что-то получается. Отсюда крюк. Если старая гнутая кочерга ни на что больше не годна, кроме как мешать — в данном случае мешать дрова в камине, — она может воспринимать себя как крюк, на котором все держится, и ей отлично.
— А Голикова-то что дает?
— А вот это очень интересно. Смотрите сюда. Я этот тип знаю, их полно. Голикова не предлагает никакой идейной базы. Идейная база вообще больше не хиляет, можете забыть. К безыдейной власти не может быть идейной оппозиции. Но Голикова помогает бедным, и это раз. Она за милосердие, это два-с. Она всех нас представляет благородными жертвами, это три-с. Вы не знаете, а я давно заметил. Она часть народа уже склонила в доноры, других в волонтеры, и список на это очень горячо ведется. А теперь — я ведь смотрю, я присматриваюсь! Она на все жуховские тусовки ездит. И все, что он говорит, аккуратно переводит на другой язык. Вы заметили, как она Бодрову потеснила?
— Я как-то не слежу…
— А за чем еще следить-то, милый? Тут же такой полигон, социолог обзавидуется. Надо хоть что-то познавательное извлечь, раз уж в список попали.
— Кстати, как вы думаете, за что? — привычно спросил Свиридов.
— Какая в жопу разница, — сказал Соболев, которому всегда все было ясно, позитивист, сангвиник, желудок в полном порядке. — Мы никогда не узнаем, да теперь уже и все равно. Процесс пошел, и возглавит его Валя Голикова, помяните мое слово.
С Валей Голиковой у Свиридова все получилось само собой — он начал поглядывать на нее с любопытством, заговорил, отвез к себе, и она осталась у него с такой же легкостью и естественностью, с какой рассказывала о волонтерстве. В этом не виделось и тени рисовки, хотя все, о чем она говорила, было для нормального человека невыносимо. Она искренне уверяла Свиридова, что делает все это не для детей, а для себя, что доверять можно только эгоизму, что альтруисты отсеиваются первыми и что мать Тереза решала в Индии исключительно личные проблемы.
— Сейчас же письма опубликовали. Она сомневалась в Боге и надеялась эти сомнения там заглушить.
— И получилось?
— По-моему, нет.
С ней было легко. Не сказать, чтобы Свиридову очень нравилось с ней спать, но после Альки надо было заполнять пустоту. Не было, как с Алькой, — восторженного умиления, радости, что вот она такая, что независимость, воля, одиночество, ум и всепонимание видны в каждой ее черте, хотя бы и в пальцах, длинных, сильных пальцах музыкантши; да и во всем решительно, что уж душу травить. Валя Голикова по сравнению с ней была проще, мельче, жиже, и пахло от нее ребенком, а не женщиной. Голикова развелась еще в прошлом году и с тех пор, говорила она с той же детской простотой, никого не было, вообще.
— Последний раз был очень смешной. Мишка пришел, сказал, что уходит. Зашел отдать ключи. Очень такой театральный жест, в его духе. И говорит: давай, что ли, напоследок… И вот не поверишь — я вообще не представляла, что так бывает: оба ревем.
— Как в анекдоте.
— Анекдот, да. Ебу и плачу. — Мат у нее звучал по-детски, необидно и не возбуждающе, так некоторые пьют водку, как воду, без выражения. — И я спрашиваю его: ну что ты, Мишка? Я же тебя не гоню, оставайся, будем считать, ничего не было. А он говорит: нельзя, я ей слово дал. Я тебя люблю, но ей дал слово. На самом деле никого он не любит, конечно.
— А сейчас у них что?
— Откуда я знаю? Я его с тех пор не встречала, как отрезало.
Ей было двадцать пять лет, и свиридовская квартира благодаря ей стала приходить в чувство. Алька не думала об уюте, вносила неуют с собой — Валя наводила чистоту и солидность. Альку не хотелось называть Алей — Валю и представить нельзя было Валькой, не потому, что она важничала, но потому, что аккуратным домашним детям не идут клички. Она окружала Свиридова заботой, которой он не помнил с детства: сама звонила, что хочет приехать, привозила еду, готовила, восторженно читала свеженаписанное. О своих делах она рассказывала скупо:
— Слушай, дай мне хоть с тобой отдохнуть от всего этого.
Большая часть ее свободного времени, однако, была теперь занята делами списка: одному она помогала пристроить ребенка к хорошему репетитору, другой обещала врача, третьему подыскивала работу. Увольнения к этому времени стали обычной практикой, без работы сидела треть списка, но Валю выгнать никто не мог — ее работодатели не боялись новых веяний. Хорошо в России быть порядочным человеком, имея американское гражданство! Это было похоже на семейную жизнь без любви — уютно, и гораздо меньше трагедий. С Алькой все время получались стычки, а с Валей Голиковой Свиридов чувствовал себя как в теплой ванне. Иногда, напиваясь, он хотел позвонить Альке, но всякий раз сдерживался: ни к чему.
Мать Голиковой тоже развелась и была, конечно, учительницей — кем еще она могла быть? Свиридов заехал к ним один раз, все было уютно, опрятно и жалко. Заходила соседка, на что-то жаловалась, — видимо, Валина мать была жилеткой для всего подъезда, и Валя унаследовала амплуа.
— Валя, — не выдержал он однажды. — Что ты грузишься всеми этими делами? Все равно сын Бураковой — балбес, и его выгонят после первой сессии, даже если поступит. А ты ему репетитора. И Смирнова никто не восстановит на работе, никто не будет в инкассаторах держать списанта. Чего ты носишься, я не понимаю?
— Мне нетрудно, — отвечала она, глядя на него серьезными детскими глазами.
— Ну нетрудно, а зачем все-таки?
— А что я еще могу делать? Мне же надо что-то делать, правильно? Ты пишешь, я не умею.
Он был раздражен, на нерве — они только что посмотрели тяжелый и нудный отечественный фильм о любви, в котором десантник и шлюха (шлюха тоже своего рода десантник — физподготовка, тату, не зря ей так шел его тельник) постоянно бросали друг друга и обретали опять, все это на фоне резкой музыки, ручной камерой, с рваным монтажом и беспрерывными погромами в кадре: десантник то бил соперника, то громил подпольный ночной клуб, то резал себе вены и только что не вспарывал экран — все прочее в пределах досягаемости уже было разрушено. Больше всего, однако, доставала не скрипучая скрипка, не перманентный разгром и даже не однообразие звериных соитий, из-за которых незачем было крушить столько реквизита — так развлечься можно было и с куклой; бесила бессмысленность, полная беспричинность всех этих притяжений и отталкиваний. Не сказать, чтобы все это было ложью, Свиридов встречал такие пары, в которых обоим не хватало ума, и потому все доступные развлечения сводились к беспрерывным приходам-уходам: ничего сверхтонкого — просто совместная жизнь требует хоть минимального мозга, а эти умели только бегать туда-сюда; но откуда претензия на трагизм — Свиридов решительно не понимал. Это могла быть комедия, он бы взялся. Его звали на премьеру, но он не пошел, памятуя о версии Гаранина — мало ли, вдруг теперь проверка таргет-группы стала нормой, теперь их, чего доброго, перепишет Минобороны, финансировавшее боевые сцены, одних кирпичей сколько разбито. Они смотрели картину в темном зале Дворца молодежи, директор которого, хоть и не списант, был незадолго перед тем арестован в Германии и ожидал экстрадиции; вообще кого-нибудь громкого брали уже ежедневно, и всегда за дело, и тенденция обозначалась с убийственной ясностью, что добавляло нервозности. Смысла, смысла не было ни в чем, вот беда: резкая музыка, много битой посуды, каждый день аресты, и все непонятно к чему. И никакая Валя Голикова не могла придать этому смысла: Алька могла, а она не могла.