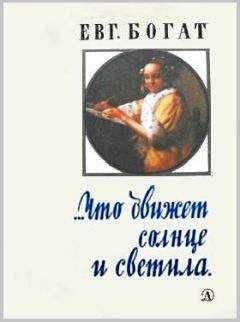11. VIII. 67
Москва
…Да, мне было плохо ночью. И больше того — страшно. Вспомните ужас, охвативший Вас во сне, и Ваш вывод, ощущение, что жизнь все-таки прекрасна! Перед лицом непосредственной угрозы небытия малодушно хватаешься хоть за какие-то самые простейшие ощущения жизни, пусть что-то, пусть хоть капелька чего-то останется, лишь бы не уйти совсем. В такой миг биологического страха забываешь, что страшно не умереть, а не жить, страшно, что не сделал, не сделаешь того, что мог бы, что хотел, что можешь еще и хочешь сделать, уйдешь так, словно бы тебя и не было, уйдешь, не оставив людям себя, тепла своей души, своей любви. Кому нужна была в мире моя любовь, которую я пытался найти в себе, выразить? Целиком никому она не понадобилась. Словно сожгли попусту целый нефтяной пласт, вместо того, чтобы превратить его в горючее для машин и самолетов, в синтетику, в электроэнергию. Горит попусту нефтяной факел, и даже Вы отворачиваетесь от этого бесполезного зрелища…
И все же, все же мне кажется, что совсем не страшно умирать (относительно, конечно) тому, кто в жизни любил по-настоящему, но, увы, этот уровень нельзя считать достигнутым, если нет взаимности. Самолет с одним крылом не взлетит, а если и взлетит, то сразу разобьется. И еще: арба плетется себе и по ухабам, и по булыжникам, а синяя птица разбилась от легкой ряби на глади озера. Так и жизни человеческие… Надо соизмерять свои силы. В этом, очевидно, мудрость. Но я не мудрый, я любящий. Таким меня и запомните.
(Когда в минуту слабости преступной захочешь отказаться от любви, сочтя ее мечтою недоступной, — меня к себе на помощь позови. Я не приду. Я часовым у входа стою, чтоб зрела без помех в душе великая, всевластная свобода, которой ты не выдержал уже. Я буду верен до конца задаче, которой все во мне посвящено: подняться до такой самоотдачи, когда любовь и жизнь — уже одно. Я не уйду. Я не предам мечту. И если смерть — то только на посту.)
Э.
Он умер и похоронен в Москве, куда переехали потом его мать и сестра.
Последний сонет его даже не переписан набело: ряд строк перечеркнут, и те, что набросаны наверху, видимо, тоже его не удовлетворяли, но новых, более совершенных, он найти уже не успел. И тем не менее сонет этот отмечен высшим совершенством — совершенством самоотдачи в любви.
Прости, я слишком много пожелал —
В любви к тебе всегда быть человеком.
В наш дерзкий век я дерзко возмечтал
Быть впереди, а не плестись за веком.
Готовя для тебя столь редкий дар.
Ни в чем любви не ставил я границы.
Но кто стремится к солнцу, как Икар,
Тот должен быть готовым и разбиться.
И вот лежу, изломан, меж камней.
Оборваны мои пути-дороги.
Целую тихо землю… Ведь по ней
Идут твои стремительные ноги.
Но что ж… Одна своим путем.
…Еще не раз мы встретимся на нем.
Любовь или умирает, или она восходит. Но если восходит, то ко все большей человечности. Она или умирает, или одухотворяется. Но если она не умирает, то умираем мы. Сердце разрывается от боли. От совершенно новой человеческой боли. Вершинной боли человечности.
Мне осталось написать несколько строк о той, кого любил Эдуард Гольдернесс. Она вышла замуж, у нее родилась и растет дочь. Что касается жизни ее души, то это тайна, в которую я не рискну углубляться.
Отмечу лишь самое очевидное: она увлеченно работает, исследуя художественную культуру Востока, открывая новое в ней. В одном из последних писем ко мне она сообщала: «Из Армении вернулась взволнованная и удивленная (и на этот раз!). И среди множества открытий — имя Нарекаци. Это армянский поэт X века, написавший „Книгу скорбных песнопений“. В 1963 году С. Я. Маршак хотел перевести его, но не успел. В песнопениях — что-то, напоминающее хорал Баха…»
В этих строках я услышал голос Эдуарда Гольдернесса.
А в Тбилиси я был у нее поздней осенью. Мы купили на рынке охапку роз и поехали вверх, в гору, к пантеону. Мы возложили розы на могилу Нины Чавчавадзе, потом стояли у парапета, над Тбилиси, и я думал о том, что в этом мире, где, казалось бы, все умирают, нет ничего реальнее бессмертия.
…В одну из последних ночей он увидел сон: небольшой, на берегу моря, наподобие Батуми город; день меркнет, вечером должны казнить Бернса, и сердце разрывается от сострадания и чувства беспомощности. Думая о Бернсе, он заходит в какой-то старый дом, замечает у окна рыдающую женщину; она поднимает лицо, и он узнает ее — ту, которую любит. И — опускается перед ней на колени, говорит: «Хочешь — я устрою, что казнят не Бернса, а меня?» — «Да», — отвечает она. «И тогда ты меня полюбишь?» — «Да». И он уходит, и на этом кончается сон…
…Он ни разу не поцеловал ее наяву и лишь однажды — во сне: в левую щеку, тихо-тихо, чтобы не разбудить, потому что видел ее больною и уснувшей. Он рассказал ей в письме об этом сне… А закончил письмо стихами Эмиля Верхарна, назвав их лучшим, что написано о любви. «Отдание тела, когда отдана душа, — не более, чем созревание двух нежностей, устремленных страстно одна к другой. Любовь — о, она — ясновидение единственное, единственный разум сердца, и наше самое безумное счастье — обезуметь от нежности и доверчивости».
Стихи эти Верхарн написал, выйдя из больницы, где нестерпимо страдал.
…А если бы это было нужно и возможно, Эдуард Гольдернесс действительно поднялся бы на эшафот, чтобы казнили не Бернса, а его, и он пошел бы к барьеру, чтобы убили не Лермонтова, а его, и лег бы в больницу, чтобы страдал он, а не Верхарн.
И поэтому поместим его в сердце рядом с ними.
ТОМАС МАНН[60] — КАТЕ ПРИНГСГЕЙМ
Начало июня 1904 г.
…И так восхитительно лукаво блестят вдобавок Ваши глаза, что это потеря времени, почти преступная потеря времени — все эти маленькие забавы, которые заполняют вечер, тогда как нам — Вам и мне — надо бы поговорить о куда более важном: Вы, конечно, знаете, Вы, конечно, видите по моему лицу, как часто я об этом думаю и как тяжко мне думать об этом снова и снова! Если бы мы больше бывали одни! Или если бы я умел лучше пользоваться теми короткими минутами, которые мне иногда бывают подарены! Я уже говорил Вам, с каким восторгом прочел я то, что Вы написали о «сближении», — и какой в то же время болью это меня наполнило. Я ведь знаю, знаю ужасающе хорошо, как виноват я в «какой-то неловкости или чем-то вроде этого» (до чего же трогательно это «что-то вроде»!), которую Вы передо мной так часто испытываете, знаю, как из-за «недостатка простодушия», непосредственности, бездумности, из-за всей нервности, искусственности, нелегкости своего нрава я не даю никому, даже самому доброжелательному человеку сблизиться со мной или вообще хоть как-то со мной поладить; и это меня особенно огорчает, когда — а такое случается при всем при том невероятно часто — я чувствую в отношении людей ко мне тот теплый интерес, который называют симпатией…
…Это моя вина; и отсюда постоянная моя потребность прокомментировать, объяснить, оправдать себя перед Вами. Возможно, что потребность эта совершенно излишняя. Ведь Вы же умны, ведь Вы же проницательны благодаря своей доброте и некоторому ко мне расположению. Вы знаете, что как личность, как человек я не мог развиваться подобно другим молодым людям, что талант порой ведет себя как вампир — высасывает кровь, поглощает; Вы знаете, какой холодной, обедненной, чисто исполнительской, чисто репрезентативной[61] жизнью я жил много лет; знаете, что много лет, и лет важных, я ни во что не ставил себя как человека и хотел, чтобы меня принимали во внимание только как художника… И Вы понимаете, что такая жизнь не может быть легкой, веселой, что даже при большом сочувствии внешнего мира она не может породить спокойной и смелой самоуверенности. Исцелить меня от артистической участи может только одно — счастье; только Вы, моя умная, милая, добрая, моя любимая маленькая королева!.. Чего я у Вас прошу, на что уповаю, чего от Вас жду — это доверия, это безоговорочной готовности быть на моей стороне даже наперекор миру, даже наперекор мне самому, это что-то похожее на веру, короче — это любовь… Это просьба и это желание… Будьте моим подтверждением, моим оправданием, моим завершением, моей избавительницей, моей — женой! И пусть Вас никогда не сбивает с толку эта «неловкость или что-то вроде того»! Высмейте меня и самое себя, если я вызываю у Вас такое чувство, и будьте на моей стороне!
Конец августа 1904
…Потому что моя работа очень меня тревожит. Это, конечно, в порядке вещей и вообще-то неплохой знак. У меня никогда еще не «било ключом», и если бы это случилось, то вызвало бы у меня недоверие. Только у дам и у дилетантов бьет ключом, у нетребовательных и несведущих, которые не живут под гнетом таланта. Ведь талант — вещь совсем не легкая, это не просто мастерство. В корне своем это — потребность, это критическое представление об идеале, это — неудовлетворенность, которая только через муку родит и совершенствует свое мастерство. И для самых великих и для самых взыскательных талант их — это страшнейший бич. Однажды, я был тогда много моложе, я читал письма Флобера и напал на одну неприметную фразу, на которой задержался надолго. Он написал ее одному своему приятелю, кажется, во времена «Саламбо»: «Моя книга доставляет мне много страданий!» Много страданий! Уже тогда я понял его; и с тех пор я ничего не делал, не повторяя сто раз эту фразу себе в утешение…