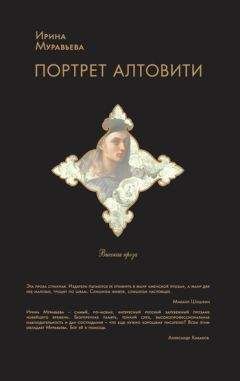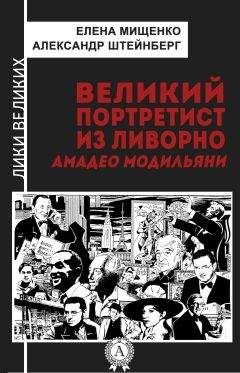Ева смутилась и поднялась со стула.
– Вы мне хотели…
– Да, – кивнул он. – Хотел. Но вы еще не сегодня уезжаете. И не завтра. И главное не то, что мне нужно сыну передать. – Он вдруг судорожно зевнул, как будто захлебнулся. – Главное, что я вас п-п-попрошу: зайдите к ней. Она ведь тоже в Нью-Йорке, я вам наврал тогда, на Новый год, что не знаю, где она сейчас. Отлично знаю где. В Бруклине.
– Что она делает там, в Бруклине?
– Не знаю.
– А почему не приезжает?
– Не знаю.
– Откуда же вы знаете, что она именно там?
– Ну, это я как раз знаю точно. Тут есть один тип, один новый русский, бизнесмен из уголовников, наркотой сделал дикие деньги, а может, не только наркотой, он сейчас полетел туда, в Нью-Йорк, они ведь там все прячутся, в вашей Америке, у них т-т-там у всех green cards[60], и дома, и дети у них там в школы ходят. Ну, вы, может быть, с этим с-сталкивались. С-с-сталкивались?
Ева отрицательно покачала головой.
– Этот Степа вообще-то начинал как пианист, диплом Гнесинского училища, но п-п-пути Господни неисп-п-поведимы, так? А брат у него монах. Настоящий монах, на Севере где-то, в монастыре, С-с-степины грехи замаливает. А может, и свои т-т-тоже. Такой вот атаман К-к-кудеяр. Был такой у Некрасова, вы, может, и не читали. Это все темная публика. Я-то их обоих знаю по прежней, т-т-так сказать, жизни, когда один на фортепьяно играл, а другой лепил, вроде меня. Это К-к-кудеяр то есть. Лепил. Но потом нас всех жизнь развела. А к-к-когда мы росли вместе, п-пацанами, я к ним часто домой в гости ходил. Дом был очень хороший, мама литературу п-преподавала в старших классах, а папа был хирургом по почкам. Известный. Из старой п-п-профессорской семьи. Отсюда и Гнесинка, и все такое. Хороший б-б-был дом, чаем угощали, книги, домработница, Марь Петровна… Ну, я их обоих потом, конечно, из виду потерял. А когда приехал сюда, в Москву, из Америки, к Диночке, с-случайно столкнулся со Степой на улице. Он к-к-как раз вылезал из своего «Мерседеса», а я в свой садился. Шучу. А я мимо проходил. И он меня окликнул. И сам рассиропился. Детство, то, се, мама, папа… П-пригласил нас с Диночкой в ресторан. Мы пошли. И она ему приглянулась. И он ей с-с-сделал гнусное, грубо говоря, предложение. Он женат, и жена у него там, в Америке. Сидит с детьми. Не в Нью-Йорке даже, а где-то в глуши. В Нью-Хемпшире, что ли. А может, в Вермонте. Диночка над ним посмеялась. И все мне рассказала. Потому что я ей муж, и она меня б-б-безумно л-л-любит. Любила, во всяком случае. Я взбесился тогда и передал через секретаря – так-то к нему трудно п-пробиться – что, если я его еще раз рядом с ней увижу, ему не ж-ж-жить. Глупости, конечно. Что я ему с-сделаю? И он вдруг пришел к нам и извинился. Так прямо и пришел, без звонка, без предупреждения. Потому что он вообще-то клоун. Они оба клоуны: и брательник его, и он. Каждый в своем р-р-роде. И они любят эффекты. Т-т-театральные. Чтобы последний акт, знаете, с выстрелом или там с роковым свиданьем, а потом сразу з-з-занавес и аплодисменты.
Ева криво усмехнулась про себя.
– И я ему тогда поверил. П-п-просто поверил, и все. Потому что мы же детьми друг друга знали, и я знал его родителей. А они мне тогда казались б-б-безупречными. Откуда у таких людей могут быть дети-монстры, вы не знаете? И я не знал. И поверил, что это на него так н-н-накатило, и все. Потому что, когда я сам ее увидел, – он нежно взглянул на беременную, склонившуюся над тазом, – я же тоже с катушек съехал. Она, как у вас, в Америке, говорят, irresistible[61]. Потом он еще несколько раз появлялся за эти три года, хотя ему и некогда было, потому что они там, с компаньонами, наладили выпуск каких-то лекарственных трав, которые они якобы из Сибири поставляют в Америку, а на самом деле это все ширма, конечно. Там идут большие дела, все повязано. Начиная от русской церкви в Нью-Йорке и кончая д-д-другими структурами. Деньги, как говорится, не пахнут. А тем более когда их так много. Но эти люди, они… они не п-просто так деньги делают, – Арсений опять судорожно зевнул. – Ева, вы извините, мне нужно немн-н-ножко принять своего лекарства, а то т-трудно говорить…
Он быстро отхлебнул из стоящей на полу бутылки, закрыл глаза и отхлебнул еще раз. Глаза его прояснились.
– Они не просто так зарабатывают, – внятно повторил он, – у этих людей своя этика. Этика уголовников. Они сентиментальны и, кроме того, все время пытаются договориться с Богом. Они Его подкупают. Постятся, в церкви ходят. Добрые дела делают. Любят добрые дела до безобразия. Детей-калек любят, умирающих. Да, именно так: калек и умирающих. Отстегивают на хосписы, на детские приюты. Немного, но отстегивают. Чтобы, когда ночью вдруг станет страшно, вспомнить про свое доброе дело и успокоиться. Прослезившись при этом. Им ведь незнамо, что от их основного дела, от злого их дела, все эти калеки и происходят. И половина этих умирающих. Но это уже, дорогая моя, я о-п-пять в философию ударился… А Диночка не деньги любит, Диночка любит власть над мужчиной – это во-первых, и власть над обстоятельствами – во-вторых. Я ей сто раз пытался объяснить, что никакой власти над жизнью у нас нет и быть не может, не верит она мне – ну, никак!
Он закрыл глаза и опять быстро отхлебнул из бутылки.
– Она меня любит, – твердо сказал он, – но Степа ей заморочил голову. Она, конечно, там, в Нью-Йорке, вкалывает. – Он вопросительно-наивно посмотрел на Еву, словно спрашивая, нужно ли объяснять, что и как. – Диночка вкалывает. Потому что она хочет, как любая мать, подстраховать своего ребенка, набрать для него каких-то денег. Может быть, этим м-м-мас-сажем, – он запнулся и сделал большой глоток. – М-м-может быть, за это правда так хорошо платят…
Ева совсем опустила голову, смотрела на грязный, в белой гипсовой пыли, пол.
– А он предложил ей п-полное содержание.
– Как она в Нью-Йорке оказалась?
– А я на что? Я же американский гражданин. Мы поженились официально, она и попала. В Нью-Йорк. Там легче, чем в Европе. Место демократичное, всех растворяет, всасывает. Он ее к-как-то разыскал. Степа. А м-может, я не все знаю. И теперь, мне кажется, она п-перед выбором. П-п-первый раз перед настоящим выбором. Возвращаться ко мне или…
– Неужели такая irresistible? – с сомнением спросила Ева и пожалела, что спросила.
Глаза его налились кровью, руки затряслись.
– Такая! – с яростью сказал он. – Вы что, не видите?
Он с силой развернул к ней гипсовую беременную.
– Prima Vera! Вы что, не видите, какие линии? А скулы? А волосы?
Рыночная кошка брезгливо взглянула на Еву пустыми белыми глазами.
– Если она вас любит, – пробормотала Ева, – куда она денется?
– Слив-то не работает, – вдруг, словно вспомнив что-то самое важное, сказал он. – Вот она вернется, а в уборной слив не работает! Как здесь находиться? И я… Т-тоже не работаю. Без нее. Не п-п-получается…
– А как же это? – Ева кивнула головой на Гоголя.
– Это? – усмехнулся он. – Это тоже она. Эт-то энергия, найденная и освобожденная с помощью другой энергии. Сексуальной. Вы, м-может быть, не знаете, Ева, но одного без другого не п-получается. М-мирами п-правит жалость, люб-бовью внушена вселенной н-н-небывалость и жизни н-н-новизна… Грубо говоря…
– Тоже Пастернак?
– Т-тоже. Я других хуже знаю. Ну, как ты там? – Арсений повернулся к сосредоточенно пыхтящему Саше. – П-показывай давай, что ты там налепил…
На улице было светло и солнечно, легкие, почти незаметные снежинки кружились в воздухе.
Ева вздохнула с облегчением.
– I have to go home[62]. – Слова, как осы, впились в голову.
Она почувствовала какую-то свежую, словно бы необходимую боль и повторила:
– Home.[63]
Этот подвал и разговор с пьяным Арсением подвели последнюю черту. Что, если бы она, а не Арсений взялась бы рассказывать о себе? Правду? Что бы вышло?
Муж и дочка лежат в земле. Деньги кончаются. Позади ряд предательств – ее по отношению к людям, людей по отношению к ней, – обманов, глупостей. Особенно сегодня было безобразно: когда она бежала через весь двор, эта лохматая.
Бить ее.
Через весь двор.
Убивать.
О-о-о, стыд!
Да разве это лохматая виновата? В чем? В том, что Ева явилась сюда, в чужой город, спать с чужим мужем? Перешагнула через родные могилы, примчалась сюда, чтобы продолжить стыд! Куда она хотела уволочь Томаса? Кем его сделать? Сашиным дедом? Что ему этот Саша? Ах, Господи! Полного амбиций человека задумала увезти из Москвы, стареющего актера – из театра? В то время, когда он решил наконец покорить весь мир, ей же первой и утереть нос своей гениальностью?
Мысли ее прояснились и начали, захлебываясь и торопясь, перескакивать через слова, которые своей медлительностью и неточностью только мешали смыслу.
Все загазовано в Москве, но какая чувствуется тут крепкая, румяная зима!
Почему она так долго не понимала того, что поняла сейчас, выйдя из подвала на улицу? Уехать отсюда – это главное. Побыстрее уехать. Оторваться от него. Кто он ей теперь? Плоть, помноженная на ее плоть. Ложь, помноженная на ее ложь.