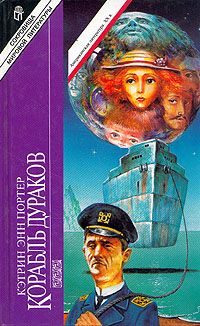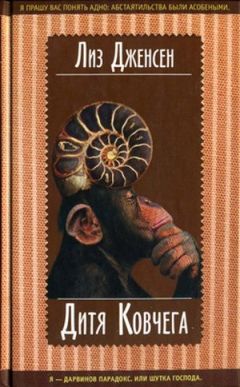От женщин ничего хорошего и ждать не приходится, надоедает только, что они все время о чем-то вполголоса лопочут между собой. Фрау Шмитт через голову Рибера что-то рассказывает фрейлейн Лиззи, к ней наклонились сидящие напротив фрау Ритгерсдорф и жена Гуттена и тоже слушают. Фрау Гуттен жалостно качает головой. Капитан сделал вид, что увлечен обедом, но его с досады бросило в жар, и опять начались рези в животе.
Скорбь, всколыхнувшаяся в душе маленькой фрау Шмитт после встречи с больным стариком Граффом и неприятного разговора с Баумгартнерами, несколько утихла; она побродила по палубе и, как рано или поздно случалось в тот день всем пассажирам, от нечего делать стала, точно в зоологическом саду, наблюдать странную жизнь внизу, за решеткой люка. Неподалеку оказался молодой американец с замкнутым лицом — Дэвид Скотт, он тоже облокотился на перила, сгорбился так, что воротник налезал ему на уши. И тут фрау Шмитт увидела внизу нечто очень печальное. Прислонясь спиной к борту, сидел человек, очень худой, жалкий и оборванный, но, кажется, молодой — не поймешь, спутанные волосы взлохмачены, босые ноги подобраны так, что колени торчат, пальцы то поджимаются, то расправляются, словно от боли, — и плакал горько, не скрываясь, как малый ребенок. Он плакал навзрыд, тер глаза кулаками, широко раскрытый рот его кривился, точно у воющего пса; а у ног лежали какие-то мелкие вещицы, фрау Шмитт не могла их разглядеть. И никто на него не обращал внимания; рядом сидели люди с каменными, равнодушными лицами; мужчины, сойдясь в кружок, стояли к плачущему спиной, женщины, поглощенные своими заботами, ходили взад и вперед и едва не наступали на него. Казалось, он один в целом мире; когда у тебя несчастье, людские сердца становятся глухи, подумала фрау Шмитт, и ее сердце дрогнуло, опять подступали слезы, но тихие, кроткие, — слезы не о своем, но о чужом горе.
И сейчас она негромко рассказывала соседкам по столу:
— Тогда я сказала этому молодому американцу — как вы думаете, почему никто с ним не заговорит? Хоть бы спросили, что с ним случилось. А молодой человек отвечает — с какой стати спрашивать, они уже и так знают, что случилось. И понимаете, оказывается, был такой приказ, уж не знаю, кто распорядился, и у всех внизу отобрали ножи и всякие острые инструменты, а этот бедняк — резчик по дереву.
Фрау Шмитт увлеклась рассказом, слушали ее с явным интересом, и она, забыв свою застенчивость, заговорила погромче; капитан прислушался, резко выпрямился, лицо его с каждой минутой становилось мрачнее, но рассказчица ничего не замечала.
— Ну и вот, герр Дэвид Скотт сказал мне, что у этого человека в узелке есть такие чурбачки, деревяшки, он из них вырезывал маленьких зверюшек и думал продать их нам, в первом классе. Герр Скотт достал несколько штучек из кармана и показал мне, и они прелесть, такие детски наивные, и герр Скотт сказал — это настоящий художник. Ну, правда, вы же знаете, американцы обожают примитивное искусство, потому что другого они не понимают. Конечно, их испортили негры — чего же еще от них можно ждать? Я только улыбнулась и ничего ему не сказала; но тот бедняк на нижней палубе так горевал! Когда офицер спросил у него нож, он вообразил, что это взаймы, на минуту, представляете? Думал, что сейчас же получит свой ножик обратно. Вы только подумайте. Американец мне все рассказал. Он сам все это видел и слышал. И очень рассердился, так, знаете, сдержанно, даже побледнел, в лице ни кровинки. Понимаете, тот бедняк вместе с ножиком все потерял, конец всем его надеждам и его любимому занятию, вот он и плакал, так плакал, прямо как дитя.
Чувствительная фрау Шмитт опять разволновалась. Она выпрямилась на стуле и прижала к губам салфетку.
Фрау Гуттен тихонько, неодобрительно прищелкнула языком. Лиззи пропищала тоненьким, девчоночьим голоском:
— Ой, по-моему, это очень нехорошо — отнимать у бедного человека его имущество! Дорогой господин капитан, пожалуйста, прикажите, чтобы ему отдали его ножик, а?
Она взмахнула длинной рукой и коснулась веером капитанского рукава. Но, вопреки ее ожиданиям, капитан не ответил милой рыцарской любезностью. Он побагровел и надулся как индюк, так что подбородок совсем ушел в воротник, и уставился на фрау Шмитт грозным, испепеляющим взглядом. Ему в руки давалась очень подходящая жертва — сейчас он обрушит на нее свой гнев, прочим будет наука!
— Весьма сожалею, сударыни, — начал он с леденящей учтивостью и обвел их взглядом: ох уж эти женщины! Не в меру чувствительны, и по-дурацки доверчивы, и вечно бунтуют против власти мужчин, которые стараются навести в мире порядок. — Да, сударыни, весьма сожалею, что вынужден омрачить ваши добрые души, но, признаюсь, это я распорядился обезоружить высланных. Можете мне поверить, в своих действиях я руководствуюсь не сантиментами, а трезвой оценкой всех обстоятельств. В конечном счете я один отвечаю не только за вашу безопасность, но и за самое существование этого корабля; а посему разрешите вам сообщить, что я действую с полным сознанием своего долга. Попрошу вас, сударыня, — прибавил он сурово, обращаясь уже прямо к фрау Шмитт, — проявите немного благоразумия, сделайте одолжение — хотя бы не прислушивайтесь к болтовне иностранцев, людей предубежденных, которые, естественно, стараются каждый шаг любого немца истолковать наихудшим образом. А уж если вам непременно надо слушать этот вздор, попрошу вас никому его не повторять!
Столь неожиданная отповедь довершила испытания, выпавшие за утро на долю фрау Шмитт, и совсем ее раздавила. Несчастная сгорбилась, низко наклонила голову, медленно, мучительно, до корней волос покраснела; руки ее лежали на столе подле тарелки, а она не в силах была и пальцем шевельнуть. Поглядела исподлобья — и увидела сладенькую улыбочку фрау Риттерсдорф: до чего же та довольна, жмурится, как кошка. И совсем не весело было думать, что придется снова увидеть эту улыбочку вечером в каюте, и завтра, и еще много, много дней.
…Поскольку было воскресенье, в то утро корабельный оркестр не играл, но после ужина в салоне зазвучали возвышенные мелодии Вагнера и Шуберта; здесь семейства Баумгартнер, Лутц и Гуттен, иными словами, наиболее почтенная публика, уселись отдохнуть за картами, домино и шахматами. Condesa скрылась, студенты немного погодя стали горланить на прогулочной палубе, а потом в плавательном бассейне. Вскоре к звукам оркестра примешалась музыка погрубее: испанцы вынесли на палубу патефон, и назойливой, неотвязной жалобой зазвучало пронзительное сопрано под треск и вкрадчивое завыванье экзотических инструментов. А все испанцы пустились танцевать — пристукивали каблуками, громко щелкали пальцами, кружили вокруг друг друга, грациозные, точно птицы в брачном танце, но лица у них оставались профессионально равнодушными.
На несколько минут они остановили свою музыку, посовещались — и начали сначала, изумляя слаженностью, необычайным согласием в каждом движении. И Рик и Рэк тоже пошли танцевать — смотрят друг на друга в упор прищуренными глазами, зубы оскалены, худенькие бедра ходят ходуном. Порой, не нарушая ритма пляски, они крикливо перебранивались, топали ногами друг на друга, лица их почти соприкасались. Взрослые посматривали на них, но не вмешивались, не давали советов. Потом все, кроме Лолы, с большим изяществом опустились на пол и замерли живописной группой, а Лола, их звезда, пошла танцевать одна — медлительный танец, полный грации и страсти.
— Ole, ole, viva tu madre![28] — выкликали остальные в такт музыке и хлопали в ладоши, неуловимо меняя ритм, а развевающиеся юбки Лолы взлетали чуть ли не выше их голов. От бассейна подошли студенты-кубинцы; почти все пассажиры-немцы как бы невольно оставили свои игры; появились матросы, каждый притворялся, будто пришел сюда по делу; всех неодолимо влекло волшебное зрелище. Фрейтаг, заметив рядом Хансена, с искренним удивлением сказал ему:
— Слушайте, а ведь она великолепно танцует!
Хансен обернулся, словно его разбудили:
— А, что? Она великая… да, она великая артистка!
Ну, пожалуй, тут есть и кое-что другое, подумал Фрейтаг и прошел дальше, ему было все еще немного совестно за вызванное Лолой недавнее волнение. И он снисходительно пожалел беднягу: до чего докатился, влюблен во всю эту бродячую шайку и готов связаться с ней надолго, и все ради бешеной кошки Ампаро…
Лола танцевала величаво и сдержанно, на лице ее застыла непременная хмурая и чувственная улыбка — и вызывала, как и положено, пылкие любовные вздохи у мужской половины труппы. Но вот в последний раз раскатисто прощелкали ее каблуки — и вмиг остальные вскочили. Репетиция кончилась, теперь они танцевали попарно, словно для собственного удовольствия, но ни малейшего удовольствия не было на их лицах, одно лишь наигранное презрение к зрителям, которых они замечать не желали.