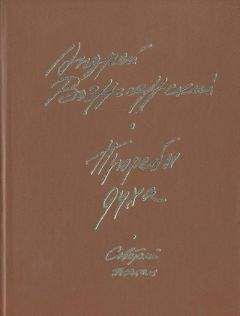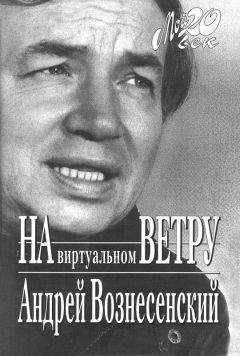Катаевский «Белеет парус» — лермонтовская строка, понятая как детство, как порыв и мятежность детства, отрочества, — стал нашим детством. В серебристом переплете она празднично и навеки, щемя неизвестностью, легла в день рождения на мою тумбочку, подаренная мамой — как и миллионам иных советских детств, и так же навеки в них осталась.
Стиховым парусом другого его романа стала строка Маяковского «Время, вперед!», но к чисто поэтическому построению он пришел лишь в последних вещах. В «Святом колодце» материализуется ход времени. Вещь эту можно читать с середины, с конца, с начала — как жизнь. Фигурка старика, моющего бутылки, — перекликается с каренинским сцепщиком, бормочущим под вагонами.
Сам прошедши жестокую выучку придирчивой бунинской линейкой, Катаев таит в себе тайны Гоголя, Чехова, Пруста, он знает, как передать это молодым. Он был инициатором журнала «Юность». Она родилась не только как ежемесячник для читающего молодняка, но и как школа мастерства молодых. О, эти редакционные чаепития с широким шумом самовара, не электрического, новомодного, нет, натурального — на сосновых шишках, древесных углях, приобретенного самим редактором чуть ли не в первый день существования «Юности»!
Журнал основать — как город заложить. И вот уже полтора десятка лет шумит, обрастает улицами, рожает, перестраивается этот многомиллионный город на бойком месте, именуемый «Юностью». «Юность» была для многих лицеем.
Зрачок Катаева меток, зол, жест молодцеват, лих. Взгляните, как свистящ его кавалерийский почерк: «Перед мельницей стояли старые, головастые ветлы, похожие на богатырские палицы, из которых во все стороны торчали голые прутья, и все это напоминало мучения святого Себастьяна, утыканного стрелами».
Или:
«…в то время как в церкви позванивали тонкие воскресные колокола и в пролете каменной готической двери, всегда напоминавшей костры восковых свечей».
«Еще четыреста, — сказал он вам однажды, прощаясь, — еще четыреста…»
Поэзия не терпит платоники, умозрительного понимания. Лучший вид понимания иноязычного поэта — самому перевести его, почувствовать стих на ощупь.
Что означает перевод?
Это значит перевести свое ощущение, стрелки своих часов на час поэта, как во время долгих ночных перелетов в бессонных аэропортах пассажиры переводят часы на нью-йоркское, токийское, парижское и иное время.
Милый читатель, переведите себя на стрелки Чаклайса.
«Сколько на ваших? Ах, пять минут третьего… Вероятно, вы правы. День какой? Ах, двадцать второе декабря? Может быть…»
А на часах Чаклайса — Час Ежа, Секунда Кузнечика, День Травы.
Поэт живет в иных измерениях, в светлых движениях тени, в кувшинках. Летом живет он там, где тенистая Лиелупе впадает в море, среди осоки, песка, бесконечного прибоя и резиновых лодок, эпики и интима.
Я полюбил вас, руки кувшинок,
шум камышиный, птичьи ватаги,
я прикасаюсь рукою мужчины
к лодкам со скользкими животами.
Он прежде всего принадлежит Латвии с ее дрожащим воздухом и каким-то особым, я бы сказал, поэтическим микроклиматом. Не знаю места, где бы так свободно и легко писалось. Думаю, дело в каком-то особом химическом составе воздуха. Может быть, потом откроют тайну этого состава, как некогда таинственная вода, называемая «Арани» или «Боржоми», открыла сейчас свою чудодейственную формулу. В Болгарии купили завод кока-колы. Но порошок разводили на местной хрустальной горной воде. Такой кока-колы нет ни в одной точке земли. Американцы ломают головы и колбы над болгарской водой. Так же непонятен и чуден воздух Латвии. Это воздух поэзии.
Латышская поэзия прекрасна сейчас. Самые плодотворные корни ее из Александра Чака, латышского поэта. Это трагическая расцветка поэзии Вациетиса. Это неожиданный, забористый Зиедонис. В нем ритм времени. А по побережью бродит поэтесса с огромными витражными очами, Визма Белшевиц. Стихи ее — стон:
Море, спаси меня!
Я тону на берегу.
И Чаклайс. Только поэт скажет: «Сестра моя, лето». Так целомудренно и отстраненно, как равный с равным, спокойно с высокой любовью, а не с мгновенной страстью, — «сестра моя…».
Мы уже были с вами на темных и лукавых берегах Лиелупе. Там, в деревянном домике, — жилище поэта. Там я встретил его несколько лет назад, внимательного, похожего на ежика мальчишку. В этой воде отражаются органы сосен, в ее интимном масштабе преломляется память о старом городе с кривыми улочками, — Рига, его Рига.
Быть может, вам сегодня утром
не хватит кренделей.
Я сомневаюсь, что не хватит.
Но вероятность все же есть.
Кондитер старый умер. Но —
его исчезновенье вряд ли
заметит кто-то, кроме близких
и, может быть, одной старушки
из нашего кафе «Вецрига»…
Это барочный мотив с булочными и бакалеями, картушами, тяжелыми бюстами, и чем роскошнее, тем грустнее, ибо ограниченность этого мира, мгновенность его торжества, дает темный подмалевок под золотым пиршеством красок.
Играет белка.
Словно мысль она.
Летит на ветку с веткй.
Роняют ветки снег.
Весна?
Странно, подумал я, прочитав это. Прямо непостижимо! Откуда в латышском тексте невольная цитата с огненной буквицей «Слова о полку Игореве»?
«И растекашеся мыслею по древу», Переписчик написал «мыслью». «Описка», — сочли исследователи. А может, «мысью», то есть белкой? («Мышью» звали ее в древности.)
Нет, поэт «Слова» знал звуковую метафору. Мысль — как мысь, то есть мысль мгновенна и огненна, как белка.
Откуда родство это? Я говорю не о масштабах, я говорю о родстве поэзии, родстве духа. На часах поэтов одно время. Время Мысли.
Мне дорога Латвия, Я волнуюсь перед свиданием с ней. И одна из вспышек в ее мозаике — застенчивый голос Чаклайса. Желаю поэту новых песен, нового постижения своего непостижимого края.
Что значит писать предисловие к этому сборнику? Предисловие к нему — протяжные туманы, сосновые иголки на песке. И он — предисловие к ним.
Вы не забыли? Сверьте секундомеры по кузнечику Чаклайса.
Сыграй, кузнечик, сыграни,
мой акустический кузнечик,
устами музыки вкуснейшей
луга и август сохрани.
В моем жизненном и душевном опыте волей случая и влечения слились две стихии — поэзия и архитектура. Получаются архистихи.
У этих двух муз общие цели — работать и для сегодняшнего человека, и для Вечности. Есть общее и в методе.
Скажем, в архитектуре существует понятие «парящих точек». Ими увлекался академик Иван Владиславович Жолтовский. Он сам многие годы был магической точкой притяжения нашей архитектуры. Жил он в загадочном особняке на улице Станкевича, рядом с кирхой, где сейчас находится студия звукозаписи «Мелодия». Однажды мне с сокурсником довелось посетить его келью. Пергаментный череп зодчего посвечивал в вековом полумраке. Патриций пропорций, он проповедовал Палладио и выцветшим взором цепко вглядывался в «парящие точки» жизни.
Напомню о них тем, кто запамятовал.
Точка пересечения осей несущих опор архитектуры находится вне здания, как бы паря над ним. Она невидима для непрофессионалов, но именно она влияет на строй архитектуры.
Так, например, колонны классического Парфенона построены слегка наклонно, «с развалом», как расставленные ноги. Их оси, если продлить их, сходятся над храмом в одной точке, которая расположена в золотом сечении по отношению к Парфенону. Такой магический центр и называют в архитектуре «парящей точкой».
Точно так же оси энтазиса стен и пилястр Троице-Сергиевой лавры сходятся в одной небесной точке. Все здание как бы стремится к ней. Когда позднее зодчий Ухтомский построил колокольню, он завершил ее именно на уровне «парящей точки». Он инстинктивно уловил эту высоту.
Магнитная точка поэзии часто находится вне текста стихотворения, как бы паря над ним. К ней устремлено напряжение стиха, к ней тянутся ветки и лепестки строк и рифм. Если такой точки нет или она ослабевает, лепестки опадают.
Прекрасная Дама была магической точкой Блока. В «Двенадцати» точка уже иная.
Кованый Медный всадник стал архитектурным центром композиции города, людских поколений, нашей культуры. Он является примером для нас.