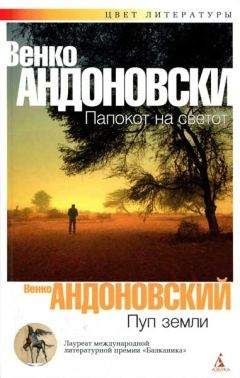Не знаю, господин судья, почему он меня любил. Никогда этого не понимала. Он был симпатичный, сильный, умный, одаренный в искусстве и физически выносливый; и в литературе был виртуоз, и на перекладине; не знаю, почему он в меня влюбился. Половина девушек в классе готова была перерезать себе вены из-за него, но он на них и не смотрел, смотрел только на меня. Мне он не нравился: очень волосатый был, а у меня от природы отвращение к таким мужчинам. Он мог любую заполучить, кроме меня, а вот влюбился в меня. Я вам это говорю, потому что уж столько лет прошло; тогда мне было бы нелегко так сказать. У меня есть муж (ну, или, скажем, у меня был муж); теперь у меня есть Зденочка; я должна следить за тем, что говорю.
Раз было что-то такое на перекладине в физкультурном зале; мы были в классе втором или третьем; он обманом встал на место Земанека, который должен был помогать нам, девушкам, подсаживать нас на перекладину. Я знала, что Ян Людвик меня любит; но я уже полгода засматривалась на Земанека, и меня интересовал только Земанек; с ним я гуляла раз десять, когда Земанеку удавалось отвязаться от Яна; Ян бегал за Земанеком как хвостик, и я не могла назначить свидание Земанеку; я думаю, что и Земанек избегал меня из-за их такой тесной дружбы. Но, как бы то ни было, этот случай на перекладине был очень неприятным; скорее всего (хоть я и не читала дневник Людвика), он счел, потому что я его обняла, когда спрыгивала с перекладины (а обняла его, потому что, в сущности, мне его было жалко, потому что он был готов претерпеть любые унижения, только чтобы побыть со мной хоть один миг), что питаю какие-то глубокие чувства к нему. Но тогда это было не так. Я его обняла, потому что он был симпатичный, а кроме того, надо было думать и о рейтинге нашей Партии, а я в то время была активисткой, и ожидалась наша победа на выборах.
В то время, господин судья, много значило объявить себя национальным художником. Людвик, к сожалению, был интернационален. Я думаю, в нем всегда было какое-то упрямство; ему очень мало было надо, чтобы быть счастливым. Но именно упрямство и эта его глупая потребность непокорства потом меня толкнули к нему и отдалили от Земанека. Я понимала, что понемногу он начинает мне нравиться; я была уверена, что рано или поздно попаду в его сети, и, понятно, испугалась: это могло мне очень осложнить всю жизнь, потому что я целиком и полностью отдалась делу Партии. И поэтому в момент, когда я увидела, что не могу ему сопротивляться (это было летней ночью на набережной Вардара в Велесе, когда мы почти занялись любовью), я решила ему навредить, чтобы он опомнился, чтобы отдалился от меня, и я передала сборник его стихов Партии. Понятно, что там над ним посмеялись, и это на некоторое время его отдалило от меня. А потом он перешел, так сказать, в наступление и написал это эссе, которое и решило его судьбу. Он не мог получить аттестат, окончить школу; во время разговора с директором он ему надерзил, и у того нервы сдали, потому что в этом эссе Людвик допустил некоторые неуместные намеки на него и на неверность его жены. Директор его побил, а мы с Земанеком увели его из школы (позднее Фиса из-за этого сняли и он получил выговор, а потом его даже исключили из Партии, но дело было сделано, и Людвик уже уехал); он попросил Земанека сбегать к нему домой, взять его вещи и принести ему саксофон. Это было все, что у него было, и все, что ему было нужно. Мы ждали Земанека перед цирком; я вытирала Людвику кровь платком и говорила ему, что надо сходить к врачу, но он не хотел. Говорил мне, что цвета больше не цвета, а просто расцвечены; я так понимаю, что это было последствием сотрясения мозга, потому что Фис с ним совсем не был нежен. Я пыталась ему сказать, что я не виновата и что меня заставили пойти на этот допрос, но он вообще не хотел про это говорить. «Я тебя прощаю, Люция!» — так он сказал. И потом сказал, что, несмотря ни на что, все еще любит меня и что всегда будет любить; сказал, что уезжает навсегда, потому что ему все противно и что надеется обрести покой. Потом сказал, что, если не найдет мира в цирке, непременно станет монахом и посвятит себя Богу.
Он меня прямо пугал, потому что говорил бессвязно: говорил что-то, что я не понимала. Но только сейчас, после этой трагедии, до меня дошло, что говорил он совершенно ясно и разборчиво. Потом пришел Земанек, он принес ему саксофон и чемодан; это был тот же самый чемодан, в котором теперь нашли и роман и дневник Яна Людвика, как и те несколько книг, которые Людвик читал. Он все это взял, поцеловал меня в щеку (это был ужасно спокойный поцелуй, как будто мы были на вокзале и провожали его, а он уезжал на выходные и все знали, что он скоро вернется); потом он обнялся и расцеловался с Земанеком. В его глазах не было слез; был только какой-то холодный гнев, какая-то ненавидящая страсть, он смирился с судьбой и тем состоянием, в котором находился мир.
Я плакала, господин судья. Почему? Потому что любила его. Да, я не стыжусь сказать: в тот миг, только в тот миг я любила Яна Людвика, хотя он и раньше меня привлекал. Я любила его по-особенному, но, повторяю, эта любовь мне испортила всю жизнь, потому что Ян Людвик — очень сложный и конфликтный человек. Он не хотел смириться с тем, что в жизни есть законы и силы, которые, может быть, и не слишком праведные, но они существуют, и это следует принимать как данность, как мы принимаем как данность то, что сегодня погода не солнечная, а пасмурная, господин судья.
Людвик смотрел на меня, вытирал мне слезы и утешал меня; представьте, господин судья, он утешал меня, а не я его; он уезжал, будущее его было совершенно туманным, он уезжал в полную неизвестность, а мы, наоборот, возвращались в свой надежный и предсказуемый мир. Мне потом много раз снилось, что он заплатил этой неизвестности своей головой, — вот о чем я думала, господин судья, то есть не то чтобы думала; просто мне снилось, будто он падает с той проклятой трапеции и ломает себе шею; я просыпалась вся в поту и плакала. Позже, намного позже я его даже любила, как женщина, которая любит мужчину; были ночи, когда мне хотелось собраться и уехать искать его; попросить у него прощения за то, что мы ему сделали (потому что Партия, как и всякая партия, потонула, как бумажный кораблик), но каждый раз я быстро брала себя в руки. А при свете дня все эти ночные замыслы — поехать искать его (да и телесная страсть к нему) — казались мне бессмысленными. Потому что, когда наступал день, у меня был Земанек; Земанек уже был в Партии, со мной; мы вместе ходили на все заседания; он делал прекрасную карьеру и скоро перерос и меня в Партии; мы из-за Партии все время были рядом, и это было для меня утешением, да, думаю, и для него после всего того, что произошло с Яном. И вот однажды, когда мы возвращались с одного собрания, он спросил меня, совершенно спокойно, не хотела бы я стать его женой. А я еще спокойнее сказала ему: «Думаю, да». Это был совсем банальный вопрос и совсем банальный ответ, если можно так выразиться, господин судья. Впрочем, этот брак был логичным и ожидаемым, но я и теперь не могу избавиться от чувства, что в этот брак мы с Земанеком вступили, только чтобы на совесть не давил груз из-за Яна.
Пояснить? Вообще-то, я думаю, что это сложно объяснить, господин судья, но я попробую. И у меня, и у Земанека было чувство, что мы оба принимали участие в репрессиях против Яна Людвика; я даже больше, чем Земанек. Но не это было самым страшным: самое страшное было то, что мы жили в совершенно реальном и существующем мире — мире Партии; мы разделяли ее отношение к миру и жизни, а Ян Людвик пришел неизвестно откуда, ворвался в наш мир и серьезно расшатал наши убеждения; он, другими словами, был серьезной угрозой самому существованию нашего мира, он угрожал его уничтожить, проткнуть, как мыльный пузырь, и если бы этот мыльный пузырь лопнул, мы остались бы вне его, в каком-то безвоздушном пространстве. Он представлял для нас опасность, как некий катаклизм, как, скажем, землетрясение представляет опасность для целых цивилизаций. Ян Людвик смеялся над нашим миром и повторял, что этот мир — ложный, иллюзия; нам пришлось защищаться, защищать мир, в котором мы жили, потому что у нас не было другого мира, своего мира, а у него был; если бы мы потеряли мир Партии, мы остались бы наедине с собой и нам пришлось бы тогда посмотреть в пустоту собственных душ. И поэтому мы решили любой ценой не признавать, что наш мир фиктивен, что он — мыльный пузырь. Мы прогнали Яна из этого мира, но у нас осталось томительное чувство, что нам его недостает, потому что мы были с ним близки; наш с Земанеком брак был чем-то вроде алиби, доказательством того, что наш мир все же реален, что в этом мире партийных собраний, трусости и лжи, подсиживаний и шантажа все же есть место и чему-то человеческому — любви, здоровой, нормальной, телесной, духовной, что от этой любви даже и дети рождаются. Этим браком мы на самом деле (и я, и Земанек) убеждали себя, что мы не ошиблись, когда прогнали Яна, потому что наш брак реально существовал, был знаком того, что мы любим друг друга, а если любим, то не можем быть виновны в том, что в этом нашем мире не было места третьему.