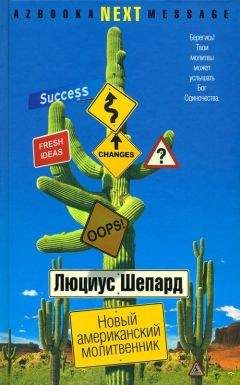Когда я приблизился к зданию, пересменка была в разгаре, через входные двери внутрь и наружу текли потоки рабочих, из которых сотни три, в основном молодые женщины, некоторые с пакетами в руках, плотной группой двигались к центру города. Пристроившись к ним, я прижал к животу увечное запястье, чтобы его не задели в толпе, и пригнулся, пытаясь скрыть разницу в росте; но, наверное, вид у меня был такой же потрепанный и усталый, как у них, — или они просто настолько вымотались, что им было все равно, — раз никто даже не заметил гринго, затесавшегося в их ряды. Толпа двигалась плечом к плечу, нисколько не редея, что было бы вполне естественно. Мне вспомнилась статья о насильниках, которые предпочитали выбирать жертв среди женщин, идущих домой со смены. Стадный инстинкт, не иначе. Даже пригнувшись, я был достаточно высок, чтобы видеть поверх толпы, и зрелище покачивающихся в такт шагам голов меня заворожило — казалось, некая многоглавая любопытная тварь с плоским, гибким телом плыла по бурной реке, текущей меж разоренных берегов. И я подумал, что это не метафора, — нас действительно объединяет наша аура, множество индивидуальных кирлианографий,[64] слитых в единую, всеобъемлющую ауру, прозрачный мешок, поверхность которого, тонкая, как пленка мыльного пузыря, переливается всеми цветами радуги. Мы были, в самом прямом смысле этого слова, островной нацией, количество граждан которой увеличивалось каждый раз, когда к группе присоединялся новый рабочий. Еще я заметил, что мои галлюцинации постепенно утратили бессвязность ЛСД-трипа, накатывали не так внезапно и протекали не так хаотично, как раньше, а приобрели даже своего рода органичность, которая у меня ассоциировалась с мескалем[65] и грибами. Я даже предположил, что меня напичкали какой-то сложной, специально для меня составленной дурью, соединившей в себе лучшее из обоих миров. Физический дискомфорт, вызванный наркотиком поначалу, тоже сошел на нет, и, если бы не охотившийся за мной Брауэр, мне бы, наверное, даже понравилось. А так приходилось быть начеку, ожидая его появления, но он все не показывался. Однако я подозревал, что ему, в общем и целом, известно, где я, и потому решил отколоться от толпы до того, как она занесет меня в какое-нибудь людное место, где его будет трудно заметить. Я даже похвалил себя за находчивость и сообразительность, как-то совершенно упустив из виду тот факт, что уже давно не совершал ничего, кроме ошибок.
Через двадцать минут и примерно три четверти мили после того, как я присоединился к исходу рабочих с макиладоры, толпа, ставшая теперь вдвое больше прежнего, поравнялась с черным строением, шириной и высотой напоминавшим самолетный ангар, правда не такой высокий, всего в два этажа. Помещалось оно на самом краю Баррио Сьело, еще одного трущобного квартала, который по сравнению с Эскина дель Соль казался вполне приличным: заброшенных домов здесь почти не было, и кое-где на улицах даже горели фонари. Фасад первого этажа огромного здания украшал непомерных размеров щит из черного пластика, изогнутый в виде шести деревьев, причем каждое дерево было изображено во всех подробностях, с мощными стволами и густолиственными кронами, которые, переплетаясь, образовывали пять входных арок без дверей. Над центральной мелковатыми буквами из белого неона, полускрытыми черной пластиковой листвой, было написано: «LA VIDA ES MUERTO» («Жизнь есть смерть»). Внутри было людно, накурено и шумно. Полицейских там толпилось видимо-невидимо: они несли службу, охраняя вход и бдительно обшаривая глазами всякого, кто проходил под черными арками. Снаружи кучками стояли хорошо одетые мужчины разного возраста, они курили, пили, смеялись, задирали девчонок с макиладоры, которые отделялись от толпы и входили в клуб. У каждой при себе была авоська или какой-нибудь пакет. Я пролез к краю толпы, выждал немного и, когда с полдюжины моих соседок попрощались с подружками и устремились ко входу, под прикрытием невысокой грудастой девицы в насквозь пропитанной потом белой блузке и розовой юбке вошел в «Жизнь есть смерть».
Всякий, кто когда-либо имел дело с психотропными веществами или сильнодействующими лекарствами, которые нарушают химический баланс в организме и вызывают помрачение рассудка, или терзался видениями иных миров, и без моей подсказки знает, что повседневная реальность есть не что иное, как результат общественного договора, более или менее устраивающего всех. Но если вы носите обувь двадцать четвертого размера, то ройтесь хоть целый день в обувных корзинах «Кей-марта», но шлепанцев на вашу величественную ногу не найдете — аналогия, вполне применимая к измененным состояниям сознания и их трактовке авторами упомянутого договора. В качестве стандартного довода, почему вещи, не видимые обычным зрением, не могут существовать, выдвигается идея присутствия в крови человека аномального количества некой мощной химической субстанции, которая и придает осязаемость этим прежде невидимым вещам, вызывая их к жизни лишь тогда, когда человек напился допьяна, сошел с ума или впал в исступление; однако, поскольку сама человеческая способность к чувственному восприятию напрямую зависит от химического состава крови, постоянно подпитываемой веществами, поступающими из окружающей среды, которая, в свою очередь, подвергается пусть небольшим, но ежедневным изменениям, этот противоречивый довод поражает меня своей надменностью, так как исходит из установки, что резкие отклонения от нормы имеют почему-то меньшую ценность, чем отклонения не столь заметные. К примеру, может ли солидный гражданин, человек, адекватно реагирующий на происходящие с ним события, быть охарактеризован как вполне нормальный исключительно на основании нашего суждения о его реакциях? Разве не могут они быть вызваны целой цепью совершенно иррациональных предпосылок? Точно так же, если пациент психиатрической клиники возьмется за изучение, скажем, политических процессов в Америке (или любой другой стране) и придет к выводу, что имеет дело с бредовыми проявлениями безумной, помешавшейся на собственном могуществе культуры, с какой стати полагать его наблюдения несущественными, хотя и точными, только на основании того, что так думает о нем сама данная культура? Так что довод этот грешит множеством недостатков. Я вовсе не утверждаю, что обитатель сумасшедшего дома прав, когда говорит, что на каминной полке сидит святой Франциск и перебирает четки из человеческих зубов, а просто высказываю предположение, что кажущееся может до некоторой степени влиять на реально увиденное.
Я говорю это, чтобы подвести некоторую базу под гипотезу — какой бы невероятной она ни казалась, — о том, что все пережитое мною в клубе «Жизнь есть смерть» могло быть не просто наркотическим бредом, но своего рода комментарием или даже откровением об истинном устройстве мира, чьей первичной сущности мы не знаем и потому наделяем его ультраестественный (то есть сверхъестественный) двойник качествами, ему совершенно не свойственными, к примеру, представляем его себе величественным или устрашающим, тогда как на деле он столь же тривиален и убог, как и все остальное. Входя под арку, огромную, как замковые ворота, я уже почувствовал себя не на месте, и мне сразу показалось, будто я попал внутрь слабо освещенного, но пестро раскрашенного бреда, дымного царства оглушительно орущих пьяниц, танцоров и пульсирующей музыки, так же не похожего на окружающий мир, как плавание в глубинах океана отличается от скольжения по его поверхности. Причудливый древесный мотив, заявленный уже на фасаде здания, развивался и внутри. Мощным колоннам из черного дерева нож резчика придал сходство с живыми стволами, вокруг которых здесь и там обвивались барные стойки, эбеновый потолок был украшен рельефным орнаментом из листьев и ветвей, а из пола торчали вполне натуральные с виду пни, служившие столиками, на которых горели масляные лампы под вогнутыми колпачками, отбрасывая на лица людей резкие тени, так что вваливались щеки и западали глаза, а ложбинки между грудями женщин превращались в провалы, полные теней, и еще из пола росли другие объекты, по форме напоминающие развилки дубовых ветвей, явно задуманные как любовные гнездышки, — в них, сплетясь телами, сидели однополые парочки, некоторые уже занимались сексом, другие были еще только на пути к этому, — короче, комната больше всего напоминала лес пороков, где лишь обманчивые огоньки эльфов слегка рассеивают тьму, обнажая тут и там скрытое неистовство вакханалии.
В задней части здания была сцена, на которой в лучах пурпурного и малинового прожекторов рубилась группа; играли они громко, но ближе к дверям разговаривать было можно. Я занял стул у бара рядом со входом, за колонной, чтобы увидеть Брауэра, едва тот войдет, а самому остаться незамеченным. На крышке стола выделялись чуть выпуклые, как естественные наросты на дереве, цепочки символов, которые напоминали молекулярные диаграммы и уравнения. Я ждал, что они исчезнут, втянутся в структуру древесины, но нет, они оставались на своих местах. Бармен, сморщенный седой старик с глазами змеи (вертикальный зрачок, золотистое поле, моргательные мембраны вместо век), принес мне бокал «Дос экис». Люди толпились у входа, протискивались друг мимо друга, проскальзывали кто наружу, кто внутрь. Минут пятнадцать-двадцать назад я бы не справился с этим мельтешением, но теперь протрезвел, привыкнув к наркотику, который правил бал в моей крови, и быстро сосредоточился. Слева, на расстоянии двух табуретов от меня, сидели двое мужчин с напомаженными волосами, в золотых кольцах и браслетах, и дружелюбно болтали; справа, прямо рядом со мной, загорелая блондинка лет тридцати пяти, в летнем платье, судя по всему, американка, привлекательная, но местами уже начинающая подсыхать, соломинкой помешивала ярко-зеленую жидкость в стакане. Она показалась мне знакомой. Я уставился на нее, а она сердито буркнула: