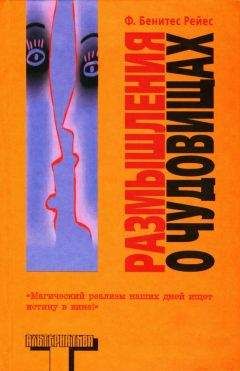Итак. Я позволил себе этот экскурс, чтобы избежать подробного описания скрытых прелестей женщины, которую я продолжаю называть Марией, и чтобы, по ходу дела, избежать объяснения причин, приведших меня к тому, чтоб упрочить свои отношения с ней, продолжившиеся до того самого мгновения, когда я пишу эти слова.
— Знаешь, какая главная проблема у этой твоей убийцы собак, старик? — спросил меня однажды вечером Хуп, и я ответил ему, что нет, потому что мне немедленно представилось множество ответов.
— То, что, когда она хочет сказать что-то умное, она старается сделать умное выражение лица, но, в конце концов, получается выражение дуры.
(Признаюсь, я боялся чего-то худшего.)
По утрам в субботу, если в пятницу лег не очень поздно, я еду на псарню и провожу там какое-то время с Марией, иногда даже издали не видя ее постель, потому что она не особенно любит эти битвы из страха, что ей снова причинят боль, еще более глубокую. (Ее дурной опыт, бьющийся в кавернах ее ощущений…) (Она однажды рассказывала мне об этом дурном опыте, и он действительно был дурным, но не исключительным: всего лишь разрушенная мечта.) (А потом растоптанная.) (А потом, наконец, демон помочился на эту мечту, можно сказать.) (Но в общем, ничего сверхъестественного.) Мы говорим о собаках и о жизни вообще, обедаем в какой-нибудь окрестной забегаловке, ложимся в постель или нет, в зависимости от того, как подсказывает ее подсознание, а когда начинает темнеть, я возвращаюсь один в город, чтобы покутить с моими друзьями, хотя иногда мне хочется остаться с ней на ночь, но, как только выглядывает луна, я слышу зов тамтамов, вой ночных сирен в ледяном море джина, скрип петель на гробах вампирш, и ухожу, и возвращаюсь в следующую субботу, и мы снова говорим о собаках и о многом другом, и так далее, и таким образом мы постепенно привыкаем друг к другу, потому что любовь (или нечто подобное), в конце концов, и состоит в процессе присматривания и движения к согласию.
— Присматривания и движения к согласию?
Да, присматриваться к тайне чуждости и эмоционально соглашаться с этой тайной, хотя этой тайны и не существует. Ведь мы влюбляемся в тайну, хоть ее как таковой и не существует, как я уже сказал, в гипнотический поток, источаемый другим существом, и под воздействием этой тайны мы чувствуем себя более или менее счастливыми, более или менее укрытыми, до тех пор пока в один злосчастный день мы не решим удовлетворить наш философский инстинкт: проникнуть в суть какой бы то ни было тайны, и тогда мы понимаем, что имеем дело с неразрешимой тайной просто потому, что ее не существует, и что мы искали вату в тумане, убежденные в том, что туман — это вата.
Как бы там ни было, между Марией и мной не существует столь строгих (и одновременно столь возвышенных) правил, как, скажем, те, что управляют математической теорией множеств, но по крайней мере они ясны, или у меня создается такое впечатление: мы взаимно не нуждаемся друг в друге, но также и не досаждаем друг другу; мы не можем влюбиться друг в друга, но также и возненавидеть друг друга; мы никогда не ликуем в постели, но также никогда и не разочаровываемся; между нами нет слияния, но также нет и отталкивания. Она мечтает о женщинах, так же как и я, но это составляет часть укромной зоны каждого из нас, и другой туда не ступает, хотя какое-то время я питал бредовую надежду, что Мария решит поделиться со мной своими любовницами: двойная женщина и ошеломленный Йереми, погруженный в свою удвоенную химеру. Но со временем я понял, что это было бы вторжением в ее области, как я уже сказал, потому что это была ее тайная собственность, ее лес фей, плотоядно преследуемых феями, и я даже не решился постучаться в эту дверь (и избежал смешного положения). У нее есть две подруги, с которыми она регулярно спит, но в субботу является волшебник Мерлин и превращает этих подруг в тающую дымку благодаря силе своей озорной палочки и произнесенных шепотом заклятий, и тогда Мария принимает меня в своем мире приговоренных к смерти собак, а иногда — в тепле своего тела, обладающего скромной красотой.
— Скромной красотой?
Да, мне легко в этом признаваться, потому что возраст заставляет нас отказываться от преследования идеи красоты, правда? — и мы смиряемся с обладанием тенями, пленниками в пещере с неугасимым огнем, этими своевольными тенями, пристально смотрящими на стену, на которой вырисовываются другие несовершенные тени, и там мы кувыркаемся друг с другом, сообщники во мраке, потому что мы — охваченные желанием кроты, наугад ощупывающие выпуклости тела, братья и сестры по крови и страху, всегда стоящие спиной к пламени.
В общем, мы с Марией чувствовали себя комфортно в сумрачной пещере, видя, как наши китайские тени прыгают и обнимаются на стене. Нам бы хотелось попасть в другое место, конечно, но нам было легко обитать в этом подземном укрытии, в этом склепе, принявшем нас, и иногда у нас блестит там сердце, словно оно сделано из серебра, потому что в конечном счете сердце — это мышца, и она упражняется в иллюзиях. А потом и иллюзия смиряется, и это всегда большое преимущество, ведь самая болезненная проблема бытия состоит в жажде множественности.
— Множественности?
Да, множественности, разъединенности, отчаянном самопроявлении… Назовем это как нам взбредет в голову. Или скажем иначе: самая болезненная проблема бытия состоит не в самом бытии, а в горячем желании быть тем, чем мы не являемся, чтобы таким образом пытаться быть всем: быть леопардом, убивающим антилопу, быть антилопой, наслаждающейся своим бегом в холодный рассвет, ощущать невинную ярость леопарда и ощущать незапятнанный ужас антилопы, которая знает, что ее преследуют, быть охотником, повергающим леопарда, и ощущать своим собственным существом сочувствие, испытываемое грифом к зловонному трупу антилопы, пожираемой леопардом. Вот в чем болезненная проблема: стремление быть слишком многим. (Слишком: бесконечным множеством, каким мы не являемся и никогда не будем.) (И, однако, эта тревожная жадность до иллюзорных сущностей…) (Какая катастрофа.)
Мне нужно было написать работу по истории философии (жаль признаться вам, но она все еще не закончена), и я ходил от этого полубезумный, потому что не знал, какой предмет выбрать, поскольку тема была свободной, а также как ее развить, а кроме того, мне было стыдно от возможности опростоволоситься перед профессором, потому что профессора обычно очень злы в глубине души.
Вначале я задумал работу под названием «Предположительное предположение о предположениях» (одно из тех названий, что производят впечатление на дилетантов), так что однажды утром, когда в отделе паспортов все было спокойно, я стал делать записи: «Любое предположение — это невозможность в себе. Предположение может быть разумным или безумным, но безразлично, то оно или другое, потому что оно всегда останется таковым: предположением. То есть возможностью, бесполезной в качестве возможности, тем временем как, если предположение исполняется, оно перестает быть предположением, а если оно не исполняется, то зачем тогда было нужно это предположение?» В общем, по этой каменистой дороге шли мои мысли, когда мне позвонил комиссар, чтобы дать мне инструкции, и тогда вступил в игру фактор нежелательной и несколько невероятной случайности, а этот фактор более распространен, чем мы обычно думаем, несомненно, из-за той дискредитации, какой подвержены искусственные проявления случая, когда в них слишком много искусственности.
Так вот, когда я направлялся в кабинет шефа, я увидел, как два моих товарища ведут куда-то в наручниках Кинки. Было бы естественно, если б я этому обстоятельству обрадовался, но правда в том, что оно меня испугало. (Этот несчастный был в курсе моего увлечения психотропными средствами, он видел меня в костюме Мерлина, он был со мной в Пуэрто-Рико, он был другом моих друзей…) Кинки посмотрел на меня сверху вниз очень большими глазами, полагаю, потому, что его обескуражила моя форма, а потом улыбнулся мне той своей улыбкой, что умеет ранить, потому что содержит в себе шифрованное послание, которое я отлично научился разгадывать: «Ты — жалкий сукин сын, но я делаю тебе одолжение, выражая мое к тебе презрение улыбкой, а не плевком в лоб». Признаюсь, я занервничал, потому что дал ход бредовой идее, что задержание Кинки может навредить мне: он за словом в карман не полезет, донесет даже на самого себя, разболтает свои собственные злодеяния, а я ему не нравлюсь, и он может постараться впутать меня черт знает во что, чтобы и меня с собой утащить.
— Что с тобой? — спросил меня комиссар, увидев, как я вхожу в его кабинет с лицом цвета бумаги, и я сказал ему, что у меня болит живот, что отнюдь не было ложью, потому что весь сгусток нервов бился у меня там, словно дрожащая голова Горгоны Эвриалы (дочери Форкия и Кето, со своей шевелюрой из змей); я закончил дела с комиссаром и почувствовал, что у меня нет умственных сил продолжать свое софистическое опровержение предположения, и все мои рассуждения рухнули замертво, и я уже не мог восстановить их, потому что философские рассуждения — как сны: они рассеиваются, прежде чем врезаются в память, быть может, потому, что речь идет об эфемерных ментальных построениях. (Не знаю.)