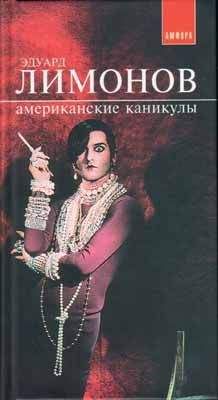Лешка помолчал, потом спросил:
— Тебе не кажется, Лимоша, что реальность, как матрешка? Одну оболочку случайно догадаешься снять, а под ней другая, под той еще одна и еще одна…
— Я часто думал, что мои родители — не мои родители, — сказал я. — До того я на них не похож. Но документы этого не подтверждают. В свидетельстве о рождении…
— Ха, свидетельство о рождении… — Лешка погладил меня по плечу здоровенной ручищей. — Бумажка. В бумажке что угодно можно написать… Иногда, Лимоша, я жалею, что узнал старого бандита-папашу только перед самым отъездом. Может, был бы я другим человеком. Мы же строим себя согласно нашему представлению о том, кто мы. Я всегда думал о себе, как о «Лешке Кранце, сыне евреев-троцкистов, интеллигентной пары», и в друзья, очевидно, подсознательно выбирал таких же интеллигентов-декадентов. И профессию выбрал декадентскую. Темперамент мой и пьянство мое нееврейское меня только и смущали… — Лешка вдруг загреб меня за плечи и притянул к себе: — Эх, Лимоша! Может быть, нам с тобой надо бы по тайге с ружьями бродить, да с девками-монголками спать, а мы тут им Дроссельмейеров, Лимоновых исполняем…
— Может быть, — сказал я. — Мне тоже раз в год кажется, что я не ту судьбу себе выбрал, Лешка. Но уж если взял, нужно ее играть. Нельзя шарахаться от одной к другой. Не то станешь неудачником… А кого твой папаша убил, а, Лешка?
— Кассира, Лимоша, замочил. Денег милиция так и не нашла. Спрятал, наверное, хорошо. При Сталине смертной казни не было, 25 лет получил. Вышел и там же, в Красноярском крае, на поселении остался. Никто, Лимоша, не знает, где человек счастливее и когда. Может, Иван Рябов счастливее Лешки Кранца…
Мы выпили за папашу-бандита и его монголку. Чтоб им было весело в их Сибири. И так как ничего уже с нашими судьбами поделать не могли, вернулись в постель. В тот день он и подарил мне золотые запонки. На память.
Они подошли ко мне, когда я уже вывозил тележку за пределы таможенного зала. Двое, по-американски рыхлые и бесформенные. Два тюка с грязной одеждой. Белый и Черный. Черный развернул у меня перед носом бумажник. В таких бумажниках у них всегда бляха или удостоверение.
— US-customs[77]. Пройдите с нами!
Обычный таможенник, черный, худенький паренек, пропустил меня, лишь мельком заглянув в мою сумку.
— Добро пожаловать домой, мэн!
Вот тебе и «Добро пожаловать». Один из чемоданов принадлежал не мне, я даже не знал, что в нем лежит. Друг Димитрий привез мне чемодан прямо в аэропорт. Теперь (у меня сжалось сердце), если в чемодане окажется пакет с героином, что я буду на хуй делать? Поди докажи, что это не мой героин! Посадят лет на десять. С моей репутацией антиамериканского писателя с удовольствием посадят, и никогда не выйду… Грязный зал перевернулся несколько раз у меня перед глазами. И, о издевательство! Как приговоренного к казни заставляют выкопать себе могилу, я обязан толкать перед собой тележку.
Мы приблизились к дверям, окрашенным в цвет свежего дерьма алкоголика.
— Внесите чемоданы!
Никакого желания помочь мне у них не появилось. Внес оба чемодана и сумку. Под их ухмылки.
— Положите чемоданы на столы!
Положил. Столы как в морге, в полиции, в тюрьме — металлические, функциональные, серые и скучные, дешевые и надежные, как вся их цивилизация.
— Откройте!
Я открыл свой чемодан, и черный радостно запустил руки в мои одежды. Вначале под самый низ. Пошарил по днищу и пошел выдергивать тряпки. Я рассчитывал пробыть в Соединенных Штатах долго — минимум три месяца, тряпок взял много.
— Почему не объявлен в декларации? — Он держал в руках полосатый костюм от Мишеля Акселя.
— Потому что это мой костюм, я его ношу.
— Но он совсем новый! — гаркнул черный.
Я взглянул в его круто-шоколадные зрачки, к которым по белкам бежали красные трещинки лопнувших сосудов. Из зрачков изливалась струя недоброжелательности, желтая, как моча. Второй таможенник — бело-розовый, рыхлый, животастый, высокий, взял из рук черного брюки и, привычно завернув низок одной штанины, показал партнеру темный след.
— Ношенные.
Я тотчас разделил их. Черный — враждебный. Белый — получше, потому что делает свою работу без эмоций. Shit! Угораздило меня. В немоем чемодане, по словам Димитрия, должны быть тряпки. Судя по весу, немного тряпок. А что, если там героин или кокаин? Тогда я пропал… Однако я знаю Димку пятнадцать лет, не может же он меня так вертануть… Но его самого могли наебать, и он не знает, что в чемодане наркотики…
— Токсидо! — черный встряхнул моим смокингом и теперь ласково щупал подкладку и карманы. — Новый, без этикетки фирмы. Не хочет платить. Отрезал лейбл!
— Он у меня уже много лет! — возмутился я. — Вот! — я развернул смокинг в руках не выпускающего его таможенника и указал на выжженное пеплом сигареты пятно на рукаве величиной с dime[78].
— Старые трюки. Поставить пятно, спороть этикетку… — не унимался черный. Однако оставил смокинг в покое, положил его на стол рядом с чемоданом, где уже лежал костюм от Мишеля Акселя и другие осмотренные вещи. — Откройте этот чемодан! — внезапно приказал он мне, оставив белого дорываться в яме моего чемодана.
В кармане брюк у меня лежали ключи. Я протянул их злодею.
— Открывайте сами!
Смерив меня злым и насмешливым взглядом, черный подставил ладонь. Грязную, бугорчатую, во впадинах и колеях, как асфальт города, в который я прилетел…
Профессионально, в момент, он распечатал девственный новенький чемодан.
— А-гааа! — проворковал довольно.
Я заглянул через его плечо. В чемодане, ловя пластиковыми обертками грустный дневной свет таможенных ламп, лежали новые вещи.
— Ага-га! Значит, нечего декларировать! А это? — он нагреб в объятия несколько пакетов и повернулся ко мне, все черные ущелья морщин на лице озарила радость. — А это? — Он был как черный Бог правосудия, этот тип. — Что ты собираешься делать с этим добром? Продавать? Профессия? Какая твоя профессия?
— Писатель, — буркнул я. — Это не мой чемодан. Я согласился взять его, и все.
— Согласился взять… Ты слышишь, Ральф? — черный сгрузил охапку пакетов в чемодан, и они захрустели. — Мы слышим это десятки раз на день в нашей работе. Все утверждают, что это не их чемоданы.
— Писатель? — переспросил белый, названный Ральфом. — Что пишешь? Для ТиВи?
— Если бы… — Я вздохнул. — Если бы я писал для ТиВи, я бы не летал чартером, а спокойно прибывал бы на «Конкорде». Романы, fiction…
— Шесть рубашек… — подсчитал черный. — Четыре свитера… Ты все это собираешься одевать, писатель? Ты в большой беде, парень, ты даже не понимаешь, в какой ты беде… Хотел обмануть дядю Сэма? Хотел сделать бизнес и не поделиться с дядей Сэмом?
Я плохо себе представлял размеры беды, в которой оказался. Меня никогда не обыскивали на таможне. Только один раз в Лондоне, в Хитроу, перерыли сумку. Быстро и деловито. Может быть, думая, что я агент Ирландской Революционной Армии. Я подумал, что вдруг еще отберут на хуй green-card[79] за то, что я пытался нелегально провести в Штаты все эти рубашки и свитера. Блядь, никогда больше не возьму ни у кого чемоданчик! Друг, не друг — в пизду такие развлечения! Я нервно заходил за спинами трудящихся в поте лица таможенников. Черный обернулся, злой.
— Стой! — приказал он. — Подними руки!
Хорошо воспитанный с детства, я знал, что когда ты у них в лапах, следует заткнуться и подчиниться. Высказывать свои неудовольствия, взывать к справедливости, дергаться, кричать на них, биться в истерике — значит еще сильнее усложнить свое положение. Кодекс поведения задержанного годится к применению на всех территориях, во всех странах и по отношению ко всем организациям, уполномоченным охранять порядок. Будь то французская, советская или американская полиция, или FBI, CIA, КГБ, ДСТ, таможня, тонтон-макуты, пожарники этцетера. Я поднял руки. Присев и начав с лодыжек, черный обшарил мое тело, не забыв спины, паха и подмышек.
— Хэй, Мэтью, take it easy! — белый Ральф с неудовольствием оторвался от работы.
— Когда он вот так вот ходит за моей спиной, я имею право знать, что у него в карманах, у писателя!
Ральф покачал головой и заглянул в мою клеенчатую сумку с туалетными принадлежностями. Мельком. Может быть, Ральфу уже было ясно, что я за человек.
— Вынь все из карманов и положи на стол! — приказал Мэтью.
Мы друг другу все больше не нравились. Я благоразумно молчал и не называл его вслух «ебаной обезьяной» или «черным фашистом», но, разумеется, я именовал его так в моих мыслях. Кто бы удержался в подобных обстоятельствах от подобной терминологии!.. Я выложил на стол мою адресную книжку, мои мелкие деньги, мои документы.
Уверенный теперь в том, что у меня нет ножа, которым я могу ударить его в спину, Мэтью возвратился к чемодану. «Что за мудаки!» — наградил я ругательством Димитрия или его друзей, ибо не знал, кто именно упаковывал чемодан. Неужели они не могли догадаться вынуть ебаные рубашки, свитера и женские платья из пакетов? В таком случае, я мог бы настаивать на том, что это мои вещи. Или утверждать, что я везу все это добро в подарок. Можно, наверное, везти в подарок шесть мужских рубашек. А если у меня шесть братьев? Блядь, в любом случае, почему я должен испытывать все эти унижения ради людей, которых я даже не знаю?! Эти уроды должны были дожидаться меня за дверью, к которой я подкатывал тележку, когда меня перехватили доблестные Ральф и Мэтью. О, я ведь страдаю за дружбу. Глупо, Эдвард… И Тьерри! Боже мой, меня же ждет Тьерри, прилетевший в одном самолете со мной! Он остался дожидаться, когда на лопастях конвейера появится его чемодан. Мы сговорились воссоединиться за дверьми таможенного зала. Shit!