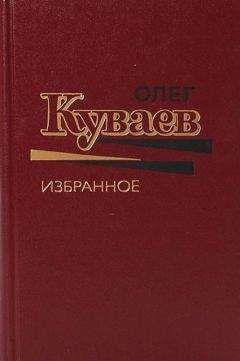– Подметку оторвал на импортных корочках, – сказал он. – Придется завтра искать другие.
– Снеси на рынок, – сказала Лариса. – Там безногий дядька тебе сразу сделает.
– На море завтра пойдем? – спросил Адька.
– Я завтра на «Волге» к лиману уеду с мальчиками. Будем в палатке жить, – сказала рассеянно Лариса.
– Ну–ну, – мужественно сказал Адька. – Я тоже скоро уеду. Уеду куда–нибудь деньги мотать.
– Зачем мотать? – сказала Лариса. – У меня никогда денег не было, и я не знаю, как их мотать.
– Ну, конечно, – сказал Адька. – Платье на тебе модерн и все прочее.
– Я это платье сама сшила. А чтоб туфли купить, два месяца голодом сидела. Ты когда–нибудь голодом сидел в физкультурном институте?
– Физкультура для женщины – вредная профессия, – сказал Адька. – Стареют женщины быстро.
– Я не постарею. Я за собой слежу очень. Я хочу долго красивой быть.
– Говорят, бездельничать надо больше. И на диете сидеть, тогда до пятидесяти лет семнадцатилетней будешь.
– Мне бездельничать нельзя. Я с седьмого класса работаю, с седьмого класса себя кормлю и одеваю.
– Ларка! – донесся крик из–за забора. – С кем ты там?
– Мать, – прошептала Лариса. – Всегда меня караулит. Иду! – сказала он громко.
– Ладно, – сказал Адька. – Я пойду. Счастливо отдохнуть в палатке.
Адька стал подниматься вверх по щербатому булыжному переулку, но потом передумал и пошел вниз к Кубани. Саманные домики кончились. Адька прошел в темноту через какую–то свалку и очутился в стене ивняка. Ивняк скрывал реку, тропинки в темноте тоже не было видно, но теперь Адька почувствовал себя на месте, почти как в тайге, и, забыв, про чешский костюм, стал продираться сквозь кусты; он знал точно, что он потеряет в темноте тропинки и направления. Перед рекой шла широкая глинистая отмель. Свет луны отражался в воде, и от луны и этого отраженного света было совсем светло. Адька засучил брюки и стал пробираться к коде. Оторванная подметка шлепала по мокрой глине. У самой воды лежало несколько выкинутых недавним паводком коряг. В пачке осталась только одна сигарета. Адька закурил ее, сел на корягу и стал смотреть на воду. Он вспоминал, как напутствовал его Колька Бабюк, недавно переведенный к ним из другой партии. «Бабов надо брать поэзией», – говорил циник Бабюк.
На душе у Адьки было муторно, и он презирал себя.
Из–за поворота, тихо свистя подвесным мотором, вышла большая остроносая лодка. «Москва», – машинально определил Адька марку мотора. – Отрегулирован хорошо моторчик».
Лодка медленно шла навстречу течению и вдруг повернула к тому месту, где сидел Адька.
– Спички есть? – спросил человек у мотора.
– Есть, – сказал Адька, – курева нет. Человек поднял голенища высоких резиновых сапог и вылез из лодки.
– Забыл, понимаешь, спички дома, – сказал он. – На, покури рентгеновских.
Он протянул Адьке пачку «Прибоя». Они закурили.
– Я их рентгеновскими зову, все нутро просвечивают, – сказал человек. – А тебя я знаю. Ты у одного пенсионера живешь. У дружка, что ли? Вы с ним в подвальчик заходили, я там был, помнишь?
– Помню, – сказал Адька.
Он вспомнил небритого коричневого мужика в ковбойке, которого видел позавчера в винном подвальчике.
– Ты заходи на рынок, – сказал браконьер. – Угощу красючком, или, по–культурному, осетриной, если повезет сегодня. Три Копейки моя кличка.
– Зайду, – сказал Адька. – Обязательно.
Он отдал спички, потом помог столкнуть лодку.
Мотор завелся с первого же краткого рывка, и лодка пошла по серебряной воде, черная, остроносая, бесшумная. Все это напоминало какую–то контрабандистскую чертовщину.
Город утонул в непроницаемой тьме, и только главная улица наверху светилась огнями редких фонарей. Собаки тоже, видно, спали, тяжелая тишина висела над спящими домами, тишина и запах деревьев.
Колумбыч не спал. Он сидел на крылечке и курил трубку. Трубку Колумбыч курил только в ответственные или особо блаженные минуты жизни. Адька не знал, какая причина сейчас заставила Колумбыча ухватиться за «Золотое руно».
– Ты где шляешься? – спросил Колумбыч. – Я полгорода обегал, тебя искал.
– А чего меня искать, – сказал Адька. – Я на Кубани был.
– Дурак, – сказал Колумбыч. – Он в новом костюме на Кубани сомов ловил.
– Ловил, – упрямо сказал Адька. – Смотри, мне сом подметку оторвал.
– Подрался?
– Повода не было.
– А здесь без повода. Здесь ребята острые, приезжих не любят. Особенно, если девчонка вмешается. Я тебя по канавам искал – думал: лежишь и истекаешь кровью.
– Это ты у меня сейчас начнешь истекать кровью, – буркнул Адька.
Они отмыли в тазу Адькины брюки и ботинки.
– Лавсан, – сказал Адька. – Роскошная вещь. Повесим, и завтра будут новые, глаженые штаны. А ботинки придется в мастерскую.
– Какая к дьяволу мастерская, – сказал Колумбыч, – неси полено.
Пока Колумбыч пришлепывал молотком подметку, Адька переоделся в свои замызганные техасы, старую ковбойку и почувствовал себя человеком. «Мужская компания, – подумал он, – лучшее общество. Без причесок и выкрутасов».
– Отчего, Колумбыч, средь мужиков себя лучше чувствуешь?
– Ха, – сказал тот. – Я б тебе ответил на этот вопрос десять лет назад, когда от жены удирал. Не поверишь – меня в лейтенанты производили за заслуги, а я вынужден был удрать. Так и остался на всю жизнь старшиной.
– Нам жениться никак нельзя, – сказал Адька. – Ты вспомни Копейникова. Что с ним из–за жены творилось.
– Нет, – ответил Колумбыч. – Нет, нет и нет. – С каждым «нет» он загонял по гвоздю в Адькин ботинок. – Я отчего удрал – она рожать не хотела. А я сына хотел. А потом уже поздно, и приехал я к вам. Вы для меня были как семья.
– Не пора ли вернуться в семейку? – сказал Адька.
– Нет, – сказал Колумбыч и положил молоток. – У вас все впереди, а у меня все в мемуарах. Уж лучше я буду здесь. Ты считаешь – мне одному две бочки вина надо? Для вас, дурачков, покупал.
– Ребята говорят, чтоб ты ехал, – сказал Адька.
– Подумаешь, – усмехнулся Колумбыч и взял молоток. – Я еще в Краснодаре по твоей физиономии прочел все, что ребята говорят.
– И что решил?
– Отстань ты от меня, – сказал Колумбыч. – Я уже старый. Я уже в Азовском море замерзаю, меня кровь не греет.
– Надо, Колумбыч, – серьезно сказал Адька. – Ведь тебя не ради прекрасных глаз просят приехать.
– А я всю жизнь жил со словом «надо». Всю жизнь под военной дисциплиной. Ты спать хочешь, а тут тревога. И наплевать, что она учебная, – вскакивай, как ошалелый, и начинай орать на других, кто быстро вскакивать не умеет. У вас тоже так, тоже дисциплина. Устал я от тревог, пойми меня. Я с курицами разговаривать хочу.
– Уеду я от тебя, – сказал Адька. – Частник ты, собственник махровый. Ты и в лейтенанты из–за этого не пошел, хотел старшиной быть, барахлом заведовать.
– Я тебя завтра виноград заставлю обрезать, – сказал Колумбыч. – Тебе бездельничать для головы вредно.
– В пустыне Гоби дует ужасный ветер хамсин, – усмехнулся Адька. – Неужели ты все забыл, Колумбыч?
– Отстань ты от меня, – повторил Колумбыч. – Везде дуют свои хамсины, и здесь тоже. Ты тут еще ничего посмотреть не успел, а уже готов Азовское море заплевать. Если ты о земле ничего не знаешь, как можно ее презирать?
Колумбыч и впрямь заставил Адьку работать в винограднике. На адовой жаре Адька ходил меж шпалер и щелкал ножницами, обрезая отбившиеся в сторону бесплодные побеги.
Работа была нудной. Пропитанный зноем и зеленью воздух стоял между шпалер недвижимо, дурацкие ножницы быстро намозолили руку, а главное, трудно было понять, какая ветка нужна, а какая нет. Вдобавок с трех сторон из–за трех заборов приплелись соседи, все, как один, пенсионеры, и с высоты своего опыта начали поучать, разъяснять и рассказывать. Потом два соседа ушли и остался только один, его дом примыкал к Колумбычеву. Седой старикан, капитан дальнего плавания. Восьмой десяток сильно его сгорбил, но в нем еще держалась какая–то морская мальчишеская хватка, и Адьке это нравилось.
Капитан посмотрел на Адькины брюки с заклепками и сказал:
– Раньше мы такие всегда в Сингапуре покупали. Так и звали: «сингапурские штаны». Приходим в Сингапур – и вся команда на берег за штанами. Крепкая вещь.
Адька обрадовался случаю потолковать о Сингапуре и бросил ножницы. Через несколько минут к ним присоединился и Колумбыч.
– А чего мы здесь сидим, – сказал капитан. – Пойдем ко мне сливянку пробовать, – и тут же зычно, даже удивительно было, что в сгорбленном стариковском теле мог сохраниться такой пиратский голос, рявкнул в пространство: – Маня, добывай сливянку, гостей веду.