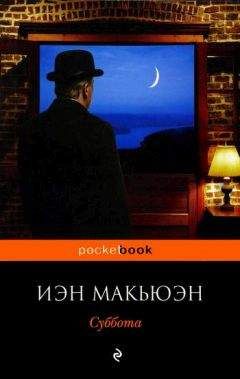Родни обильно смазывает шов и участок вокруг него хлоргексадином и накладывает небольшую повязку. Здесь Генри перехватывает инициативу — перевязывать он предпочитает сам. Он снимает зажимы один за другим. Затем укладывает вдоль раны три больших марлевых тампона. Две длинные полоски марли оборачивает вокруг головы. Приподняв голову Бакстера и прижав ее к своему животу, придерживая левой рукой все пять отрезков марли, правой он начинает обматывать вокруг головы Бакстера длинный креповый бинт. Это трудно — и физически, и технически: нужно обходить два дренажа, да еще следить за тем, чтобы не уронить голову. Наконец повязка наложена и надежно закреплена. Все, кто есть в операционной, сходятся к Бакстеру — на этой стадии личность пациента возрождается, маленький участок насильственно вскрытого мозга вновь обретает хозяина. Снятие со стола означает возвращение к жизни; Пероун видел эту процедуру уже сотни раз, и все равно сейчас она вызывает у него странную ассоциацию с любовными ласками. Эмили и Джоан осторожно снимают обернутые вокруг груди и ног Бакстера асептические ткани; Родни, стоя рядом, следит за тем, чтобы они не задели ни одну из трубок, повязок и дренажей. Гита снимает ленту, которой заклеены глаза пациента. Джей снимает с ног Бакстера одеяло с подогревом. Генри в конце стола все еще баюкает в руках его голову. Беспомощное тело в длинной больничной рубахе кажется очень маленьким. Задумчивое и грустное пение струнных, кажется, обращено сейчас к одному Бакстеру. Джоан накрывает его одеялом. Осторожно, стараясь не задеть экстрадуральный и субгалеальный дренажи, врачи переворачивают Бакстера на спину. Родни кладет на стол подушку в виде подковы, и Генри укладывает на нее голову Бакстера.
— Хочешь продержать его ночь на седативах? — спрашивает Джей.
— Нет, — отвечает Генри. — Пусть проснется.
Анестезиолог прекращает подачу снотворного: теперь Бакстер вновь начнет дышать самостоятельно. Чтобы проследить за переходом, Стросс накрывает ладонью маленький черный мешочек-резервуар, через который должно проходить дыхание Бакстера. Собственному прикосновению Джей доверяет больше, чем сложной электронике анестезийного аппарата. Пероун стягивает латексные перчатки и — это уже стало ритуалом — точным броском отправляет их через всю операционную в мусорное ведро. Попал — хороший знак.
Снимает халат, бросает его в то же ведро, затем — как был, в шапочке — выходит в коридор, чтобы найти и заполнить послеоперационную карту. За столом ждут двое полицейских: Пероун сообщает им, что через десять минут Бакстера переведут в палату интенсивной терапии. Вернувшись, застает в операционной совсем иную атмосферу. Сэмюэл Барбер сменился кантри — любимой музыкой Джея. Эммилу Харрис распевает «Из Боулдера в Бирмингем». Эмили и Джоан, прибираясь в операционной (в малолюдные ночные часы эта забота ложится на медсестер), обсуждают чью-то свадьбу. Двое анестезиологов и Родни Браун, готовя пациента к перевозке в отделение интенсивной терапии, говорят о процентах ссуды на квартиру. Бакстер, все еще без сознания, мирно лежит на спине. Генри пододвигает себе стул и начинает писать. В графе «имя» записывает: «Известен как Бакстер», в графе «возраст» — «приб. возр. 25». Прочие личные вопросы приходится обойти молчанием.
— Нельзя же хвататься за первые условия, которые тебе предложат, — объясняет Джей Гите и Родни. — Надо навести справки, посмотреть, поискать…
— …Купила себе спрей для искусственного загара, — рассказывает Джоан Эмили. — Ведь загорать по-настоящему при карциноме нельзя. И теперь она вся ярко-оранжевая! Представляешь? Вся оранжевая — лицо, руки, все, а свадьба в субботу!
Под успокаивающее журчание голосов Генри быстро пишет: «Экст./субдуральная, вскрыт. чер., устран. разрыва вены, зашив. рван, раны…»
Последние два часа он провел в каком-то самозабвении, утратив и чувство времени, и память обо всех прочих областях жизни. Он вообще перестал думать о себе. Свободный и от груза прошлого, и от тревог о будущем, он погрузился в чистое настоящее. Сейчас, со стороны, это состояние кажется блаженством. Есть в нем что-то от секса: то же погружение в иную среду, но, разумеется, не чувственное, и наслаждение от него далеко не столь очевидно. Это состояние ума приносит удовлетворение, которого он никогда не получает в обычных развлечениях. Книги, кино, даже музыка ни в какое сравнение не идут. Отчасти дело в слаженной совместной работе, но не только. По-видимому, эта блаженная нирвана напрямую связана со сложностью задачи, необходимостью надолго сосредоточиться, применить все свои лучшие навыки, действовать безукоризненно и точно. А еще — с высокой ответственностью, даже опасностью. Именно в такие моменты свободы и самоотдачи он чувствует, что живет в полную силу. Он счастлив. Здесь, на работе, он познал счастливейшие (ну, может, не считая песни Тео и утреннего секса с Розалинд) минуты своей драгоценной субботы. «Как-то это неправильно», — говорит себе Генри, покидая операционную.
Выйдя из лифта этажом ниже, он идет по сумрачному коридору в неврологическое отделение. Представившись дежурной медсестре, входит внутрь, останавливается у дверей палаты на четверых, заглядывает через стекло. Убедившись, что у ближайшей койки горит настенная лампочка, открывает дверь и тихонько входит. Она сидит в постели и что-то пишет в блокноте с розовой пластиковой обложкой. Генри присаживается рядом, заглядывает в блокнот и видит, что все точки над «i» в нем обведены трогательными сердечками. Она улыбается мечтательной и сонной улыбкой.
— Не спится? — тихо, почти шепотом спрашивает Генри.
— Мне дали таблетку, но я не могу заснуть. Все сижу и думаю.
— Понимаю. Прошлой ночью мне вот так же не спалось. А ты молодец. Отлично держишься.
Толстая повязка, которой сам Пероун обмотал вчера ее голову, придает нежному округлому личику с бархатистой темной кожей какой-то отстраненный вид, благородно-экзотический. Африканская царица. Она устраивается в постели поудобнее, натягивает на плечи одеяло, словно готовится услышать вечернюю сказку. Блокнот прижимает к груди.
— А операция нормально прошла?
— Как по маслу.
— А… вот вы недавно говорили это слово, означает «то, что будет дальше»…
Генри удивлен. Перед ним сидит другой человек: ни грубости, ни наглых выходок, ни уличной брани. Однако слабостью организма и действием лекарств такую перемену не объяснить. И операцией тоже — тот отдел мозга, где он проводил оперативное вмешательство, не отвечает за эмоциональные реакции.
— Прогноз, — подсказывает он.
— Ага, точно! Доктор, какой у меня прогноз?
— Прекрасный. Стопроцентная вероятность полного выздоровления.
Она еще глубже зарывается в одеяло.
— Мне так нравится, как вы это говорите! Скажите еще раз!
Он повторяет свое суждение еще раз, самым авторитетным «докторским» голосом, на какой только способен. А ответ на вопрос, что так изменило характер Андреа Чепмен, думает он, следует искать в ее блокноте.
— Что это ты пишешь?
— Секрет! — быстро отвечает она и с загадочной улыбкой устремляет взгляд в потолок. Глаза у нее горят от желания поделиться своей тайной с целым светом.
— Знаешь, — говорит он, — я умею хранить секреты. Врачу без этого не обойтись.
— Никому не скажете?
— Никому.
— На Библии поклянетесь?
— Клянусь, никому не скажу.
— Тогда ладно. Вот что: я решила, что стану врачом!
— Прекрасно.
— Хирургом. Мозговым хирургом.
— Еще лучше. Но правильно это называется «нейрохирург». Привыкай.
— Ага, точно. Нейрохирург. Я буду нейрохирургом! Здорово, правда?
Кто знает, сколько реальных и воображаемых медицинских карьер зарождается в больничных палатах? За прошедшие годы Генри Пероун выслушивал от своих юных пациентов немало подобных признаний; однако такого энтузиазма, как у Андреа Чепмен, пожалуй, еще не встречал. Не может она лежать спокойно — откидывает одеяло, поворачивается на бок и осторожно, чтобы не сдвинуть дренаж, опирается головой на руку. Прежде чем задать следующий вопрос, медлит, отводит взгляд.
— Вы сейчас делали операцию?
— Да. Один человек упал с лестницы и разбил себе голову.
Но ее интересует не пациент.
— А доктор Браун там был?
— Был.
Он видит ее сияющие, счастливые глаза. Наконец-то! Вот и подошли к самой сути ее секрета.
— Он замечательный доктор, правда?
— Да, очень хороший. Один из лучших. Он тебе нравится?
Она просто кивает, не в силах подобрать слова. Выждав немного, Генри спрашивает:
— Ты его любишь?
При звуке этих священных слов Андреа вздрагивает и поспешно вглядывается ему в лицо, опасаясь насмешки. Но Генри непроницаемо серьезен.
— Тебе не кажется, — осторожно интересуется он, — что он для тебя чуточку староват?