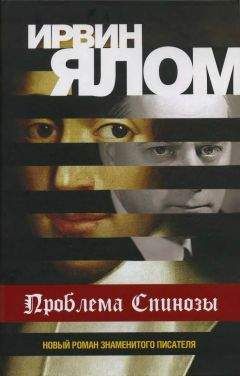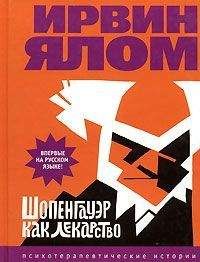— Итак, — сказал Фридрих, глядя на часы, — мы завершили полный круг, вернувшись к причине, которая привела вас ко мне. Мы начали с отсутствия дружеского общения, отсутствия интереса к другим. Далее мы рассмотрели ту часть вашей натуры, которая стремится быть похожей на сфинкса. Потом вернулись к вашей жажде любви и внимания со стороны Гитлера и о том, как вам больно видеть, что он близок с другими, а вы остаетесь снаружи и только наблюдаете. А потом говорили о вашем отдалении от жены. Давайте потратим пару минут на то, чтобы вместе рассмотреть проблему близости и дистанции. Вы сказали, что здесь чувствуете себя в безопасности?
Альфред кивнул.
— А каковы ваши чувства по отношению ко мне?
— Вы очень надежный. И очень понимающий.
— И вы ощущаете нашу близость? Я вам по-человечески нравлюсь?
— Да, и то и другое.
— В этом и кроется наше самое большое открытие за сегодняшний день. Мне кажется, я действительно вам нравлюсь, и именно потому, что я вами интересуюсь. Мне вспоминается ваше замечание: вам кажется, что вас не интересуют другие люди. Однако людям обычно нравятся те, кто к ним проявляет интерес. Это самая важная информация, которая есть у меня для вас сегодня. Я еще раз повторю: людям нравятся те, кто проявляет к ним интерес. Мы сегодня отлично и продуктивно поработали. Это наш первый сеанс — а вы уже так глубоко погрузились! Мне очень жаль, что пора заканчивать, но у меня действительно был долгий день, и моя энергия на исходе. Очень надеюсь, что вы будете часто приезжать, чтобы повидаться со мной. Я чувствую, что могу вам помочь.
ГЛАВА 25. АМСТЕРДАМ, 1658 г
В течение следующего года Спиноза (более не Барух, но отныне и навсегда известный как Бенто или по письменным работам — Бенедикт) поддерживал необычную связь с Франку. Почти каждую ночь, когда Бенто укладывался в свою кровать с балдахином в маленькой мансарде дома ван ден Эндена, жаждая забыться сном, в его мысли вплывал образ Франку. Появление этого образа было столь неуловимым и естественным, что Бенто ни разу не попытался понять (что для него вообще-то было нехарактерно), почему он так часто думает о Франку.
Правда, в другое время Бенто не вспоминал о Франку. Часы его бодрствования были загружены интеллектуальными занятиями, которые приносили ему больше радости, чем все, что он испытывал прежде. Всякий раз, воображая себя согбенным старцем, размышляющим о своем прошлом, он понимал, что наверняка отметит эти дни как лучшие в своей жизни. Это были дни дружбы с ван ден Энденом и остальными студентами, овладевающими латынью и греческим и пробующими на зуб великие темы классического мира: атомистическую модель вселенной Демокрита, платоновскую идею блага, аристотелевский «неподвижный движитель» и свободу от страстей, проповедуемую стоиками.
Его жизнь была прекрасна в своей простоте. Бенто был полностью согласен с утверждением Эпикура о том, что потребности человека невелики и легко удовлетворяемы. Нуждаясь только в крове и пище, в книгах, бумаге и чернилах, он мог заработать необходимое количество гульденов, шлифуя линзы для очков всего два дня в неделю и обучая ивриту коллегиантов, которые желали читать Писание на их родном языке.
Академия обеспечивала ему не только трудовую практику и крышу над головой, но и общественную жизнь — временами даже больше, чем хотелось Бенто. Ему полагалось ужинать вместе с семьей ван ден Эндена и студентами, столующимися в академии, но вместо этого он часто предпочитал, взяв тарелку с хлебом и твердым голландским сыром и свечу, удалиться в свою комнату и читать. Его отсутствие за столом расстраивало госпожу ван ден Энден, которая считала Бенто живым собеседником и пыталась — впрочем, безуспешно — усилить его общительность, предлагая даже готовить его любимые блюда и избегать некошерной пищи. Бенто уверял ее, что он ни в коей мере не придерживается правил, но просто равнодушен к еде и вполне доволен самой простой пищей — хлебом, сыром и ежедневным стаканом пива, после которого он обыкновенно раскуривал свою глиняную трубку с длинным чубуком.
Вне занятий он избегал общения с соучениками, кроме Дирка, который вскоре должен был отправиться в медицинскую школу, и, разумеется, умницы-разумницы, чудесной Клары Марии. Но обычно после недолгого разговора он ускользал и от них, предпочитая общество двухсот увесистых, припахивающих плесенью томов библиотеки ван ден Эндена.
Не считая живописи, выставленной в лавках торговцев картинами на маленьких улочках, расходящихся в разные стороны от городской ратуши, Бенто не особенно интересовался изящными искусствами: они не были ему близки, и он стойко сопротивлялся попыткам ван ден Эндена развить его эстетические чувства в области музыки, поэзии и прозы. Однако противостоять страстному увлечению учителя театром было попросту невозможно. Классическую драму можно оценить, утверждал ван ден Энден, только если ее декламируют вслух, и Бенто послушно участвовал вместе с остальными студентами в драматических чтениях на занятиях, хотя и был слишком стеснителен, чтобы произносить свои реплики с достаточным воодушевлением. Как правило, дважды в год близкий друг ван ден Эндена, директор Амстердамского муниципального театра, разрешал студентам академии использовать свою сцену для больших постановок, которые разыгрывали перед маленькой аудиторией, состоявшей из родителей и друзей студентов.
Постановкой зимы 1658 года, случившейся более чем через год после изгнания Бенто, был «Евнух» — пьеса Теренция, где Бенто была назначена роль Парменона, развитого не по годам мальчика-раба. Впервые просматривая свою роль, он усмехнулся, дойдя до следующих строк:
Коль мыслишь ты, что сделать можно точным
неточное, прибегнув к логике,
добьешься ты не большего, чем если
путем разумности к безумию стремишься.
Бенто понимал, что ироничное чувство юмора ван ден Эндена, несомненно, проявилось в том, что тот назначил ему именно эту роль. Он настойчиво пенял Бенто за его гипертрофированный рационализм, который не оставлял места для эстетической чувствительности.
Публичная постановка прошла великолепно, студенты играли свои роли с жаром, зрители часто смеялись и долго аплодировали (хотя и мало что понимали из латинских диалогов). Бенто в прекрасном расположении духа вышел из театра под руку с двумя своими друзьями, Кларой Марией (которая играла куртизанку Фаиду) и Дирком (исполнявшим роль юноши Федрии). И вдруг из темноты выскочил охваченный безумием, с дико горящими глазами мужчина, размахивавший длинным мясницким ножом. Вопя по-португальски: «Herege, Herege!»[98] — он кинулся на Бенто и дважды ударил его в живот. Дирк, обхватив нападавшего, повалил его, а Клара Мария поспешила помочь осевшему на мостовую Бенто, придерживая его голову руками. Дирк, юноша хрупкого сложения, не мог соперничать с нападавшим, который сбросил его с себя и скрылся во тьме, унося с собой нож. Ван ден Энден, который в молодости был врачом, подбежал, чтобы осмотреть Бенто. Увидев две зияющие прорехи в плотном черном плаще, он торопливо расстегнул его и обнаружил, что рубаха, тоже располосованная, запятнана кровью, но порезы задели только кожу.
В состоянии шока Бенто, поддерживаемый с обеих сторон ван ден Энденом и Дирком, сумел пройти три квартала до дома и медленно поднялся по лестнице в свою комнату. Давясь, он заставил себя проглотить валериановый настой, приготовленный собственноручно хозяином дома. Он вытянулся на постели, Клара Мария присела рядом, держа его за руку, и вскоре он забылся глубоким 12-часовым сном.
На следующий день в доме царила суматоха. Ранним утром объявились представители муниципальных властей, которые собирали сведения о нападавшем. А чуть позже двое слуг доставили записки от возмущенных родителей, поносивших ван ден Эндена за то, что он не только поставил скандальную пьесу о плотских грехах и трансвестизме, но и позволил женщине (своей дочери) сыграть в ней роль — и какую: роль куртизанки! Однако директор академии оставался невозмутим — нет, не просто невозмутим: его забавляли эти письма, и он похохатывал, представляя, как повеселили бы Теренция эти разъяренные родители-кальвинисты. Вскоре его добродушное настроение успокоило семейство, и директор вернулся к прерванным занятиям.
Лежащего наверху в мансарде Бенто снедало беспокойство, и он едва мог терпеть давящую тяжесть в груди. Снова и снова преследовали его видения: безумное лицо нападавшего, крики «Еретик!», сверкающий нож, тяжесть лезвия, прорывающего его плащ, падение на землю под весом убийцы… Чтобы успокоиться, он прибегнул к своему обычному оружию — клинку логики, но сегодня тот никак не мог справиться с охватившим его ужасом.