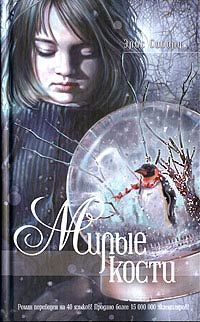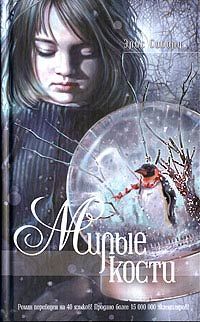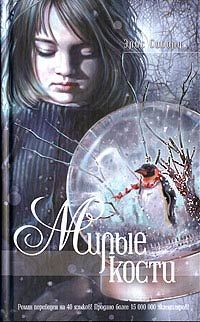Придвинув стул вплотную к изголовью, она опустила лицо на край подушки, чтобы следить, как дышит мой отец, видеть, как у него подрагивает веко. Как же можно так сильно любить — и скрывать это от себя самой, просыпаясь по утрам вдали от дома? Она прочертила границу дорогами, отгородилась рекламными щитами, опустила шлагбаумы, отломила зеркало заднего вида. Неужели она думала, что от этого он исчезнет? Что из памяти сотрутся годы и дети?
Глядя на мужа, она успокаивалась от его равномерного дыхания. Все оказалось так просто, что поначалу она даже этого не поняла. Перед глазами возникали комнаты в нашем доме и прожитые в них долгие часы, которые она старалась вытравить из памяти. Теперь, когда она вернулась, воспоминания оказались еще слаще на вкус — как цукаты, забытые на полке в чулане. На той же полке хранились все памятные даты, и наивность их первой любви, и крепкий жгут, сплетенный из общих мечтаний, и основательный корень расцветающей семьи. И первое проявление этой основательности.
Она заметила на лице у моего папы новую морщинку. Полюбовалась серебристыми висками.
Вскоре после полуночи она заснула, хотя изо всех сил старалась не смыкать глаз — чтобы насмотреться на это лицо и вобрать все сразу, а утром проститься.
Они мирно спали рядом, и я шепотом пропела:
Камешки-косточки, семечек горсточки,
В поле тропинки, стеклышки-льдинки.
Сюзи тоскует, сидит у окошка.
Кто же ее приголубит немножко?…
Часа в два ночи хлынул дождь. Он обрушился на больницу, на наш дом, на мои небеса. И крытая жестью лачуга, где спал мистер Гарви, тоже приняла этот ливень. Молоточки дождя стучали по крыше прямо у него над головой. Ему снилась не та девушка, чьи останки были выкопаны и как раз сейчас находились на экспертизе, а Линдси Сэлмон — 5! 5! 5! — ускользающая сквозь живую изгородь. Этот сон всякий раз становился предвестником опасности. Ее мелькнувшая футболка одним ударом выбила его жизнь из привычной колеи.
Около четырех часов утра я увидела, как мой отец проснулся и ощутил на щеке тепло маминого дыхания, еще не зная, что она спит рядом. Мы с ним оба хотели, чтобы он ее обнял, но у него не хватило сил. Зато можно было пойти другим путем. Поведать ей о том, что он испытал после моей смерти, — о том, что неумолимо лезло в голову, хотя было скрыто от всех, кроме меня.
Ему было жалко ее будить. Больничную тишину нарушал только шум дождя. Дождь — мой отец это знал — следил за ним из темноты и сырости, и ему вспомнилось, как Линдси и Сэмюел возникли на пороге, насквозь промокшие и счастливые: они все дорогу бежали, чтобы только скорее вернуться к нему. Он часто ловил себя на том, что командует себе: равнение на середину. Линдси. Линдси. Линдси. Бакли. Бакли. Бакли.
Уличные фонари выхватывали из темноты круги дождя, прямо как в фильмах его детства. Голливудский дождь. Он закрыл глаза, ощутив на щеке умиротворяющее дыхание моей мамы, и стал слушать легкий перестук дождевых капель по тонким металлическим подоконникам, а потом услышал слабый птичий щебет. Наверно, птаха свила гнездо прямо за окном, а птенцы проснулись от дождя и обнаружили, что мать упорхнула; впору было спешить им на помощь. Его ладонь накрывали ослабевшие мамины пальцы. Она здесь, и в этот раз, несмотря ни на что, он должен позволить ей оставаться собой.
Вот тут-то я и проскользнула в папину палату. Очутилась там вместе с ними. Раньше я только незримо парила сверху, а теперь стояла рядом, как живая.
Я сделалась совсем маленькой; уж не знаю, можно ли было разглядеть меня в темноте. В течение восьми с половиной лет я каждый день оставляла папу без присмотра на несколько часов, точно так же, как оставляла маму, Рут и Рэя, сестру и братишку и, уж конечно, мистера Гарви, а мой отец — теперь я поняла — не оставлял меня ни на минуту. Его преданность раз за разом свидетельствовала, как меня любили на Земле. В теплом свете папиной любви я так и осталась девочкой по имени Сюзи Сэлмон, у которой вся жизнь впереди.
— Я так и знал, что в полной тишине тебя можно услышать, — прошептал он. — Стоит только затаить дыхание — и ты вернешься.
— Джек, — сказала, просыпаясь, моя мама, — кажется, я задремала.
— Чудо, что ты вернулась, — сказал он.
Мама посмотрела ему в глаза. И все исчезло.
— Как ты справляешься? — спросила она.
— У меня нет выбора, Абби, — ответил он. — Что мне еще остается?
— Уехать, начать все сначала, — сказала она.
— Тебе это помогло?
Вопрос остался без ответа. Я протянула к ним руку и растворилась.
— Приляг ко мне, — попросил мой отец. — У нас есть немножко времени, пока эскулапы тебя не выставили.
Она словно застыла.
— Здесь ко мне отнеслись по-доброму, — сказала она. — Сестра Элиот даже помогла расставить цветы, пока ты спал.
Оглядевшись, мой папа наконец-то заметил букеты.
— Нарциссы, — сказал он.
— Цветы Сюзи.
Папино лицо осветилось улыбкой:
— Вот так это и делается — хранишь память, даришь цветы.
— Это так тяжело, — сказала мама.
— Да, — кивнул он, — тяжело.
Мама едва-едва сумела примоститься на краешке больничной койки. Они вытянулись рядом, чтобы смотреть друг другу в глаза.
— Как прошла встреча с Бакли и Линдси?
— Лучше не спрашивай, — сказала она.
Немного помолчав, он сжал ее руку.
— Ты изменилась, — заметил он.
— Хочешь сказать, постарела.
Мне было видно, как он приподнялся на локте, взял прядь маминых волос и заправил за ухо.
— За это время я снова в тебя влюбился, — сказал он.
Я бы все отдала, чтобы сейчас оказаться на мамином месте. Его любовь к ней питали не застывшие картины прошлого. Эту любовь питало все — ее сломленный дух, ее бегство, ее возвращение, ее близость к нему в этой больничной палате, до восхода солнца, до прихода врачей. Он любил ее за то, что мог осторожно гладить ее волосы и безрассудно бросаться в глаза-океаны.
Мама так и не заставила себя произнести «я тебя люблю».
— Ты останешься? — спросил папа.
— Ненадолго.
Это было уже кое-что.
— Ну и хорошо, — сказал он. — А что ты говорила в Калифорнии, когда тебя спрашивали о семье?
— Вслух говорила, что у меня двое детей. Про себя говорила: трое. И каждый раз просила у нее прощения.
— А мужа упоминала? — спросил он.
Она задержала на нем взгляд:
— Нет.
— Вот так раз, — протянул он.
— Джек, я вернулась не для того, чтобы притворяться, — ответила она.
— А для чего?
— Мне позвонила мать. Сказала, что у тебя инфаркт. Я вспомнила твоего отца.
— Подумала, что я могу умереть, как он?
— Да.
— Ты спала, — сказал он, — и не видела ее.
— Кого?
— Она вошла в комнату, а потом вышла. Мне показалось, это была Сюзи.
— Джек, — настороженно сказала мама, но без очевидной тревоги в голосе.
— Не прикидывайся, будто ты ничего не видела.
Тут ее прорвало.
— Я вижу ее повсюду, — выдохнула она, — даже в Калифорнии она была повсюду. В автобусе, на улице, возле школы. Вижу ее волосы — а лицо чужое. Вижу ее фигурку, ее походку. Вижу, как девочка нянчит младшего брата или как играют две сестренки — и думаю, сколько потеряла Линдси. Для нее и для Бакли такие отношения утрачены навсегда, но меня тоже судьба не пощадит, потому что я вас бросила. Переложила все на тебя, ну и еще на мать.
— Она у нас молодчина, — вставил мой отец. — Настоящая скала. Кое-где дает слабину, но все равно — скала.
— Понимаю.
— И все-таки: если я буду настаивать, что в палате пару минут назад была Сюзи, что ты скажешь?
— Что ты рехнулся и что, скорее всего, ты прав.
Мой отец легонько провел пальцем по маминому носу. Когда его палец коснулся ее губ, они слегка приоткрылись.
— Придвинься поближе, — сказал папа, — я, как-никак, больной.
Я смотрела, как целовались мои родители. Они делали это с открытыми глазами, и мама разрыдалась. Ее слезы катились по папиным щекам, и вскоре он тоже не выдержал.
Оставив родителей в больнице, я отправилась проведать Рэя Сингха. Мы расстались, когда нам обоим было по четырнадцать лет. Сейчас его голова покоилась на подушке. Темные волосы на желтом квадрате, смуглая кожа на желтой простыне. Он всегда был мне дорог. Я пересчитала каждую ресницу на его закрытых глазах. Не сбылось, не случилось. Но я не собиралась с ним расставаться, так же как и с родителями.
Когда мы с ним затаились на помосте в школьном зале, слушая, как внизу отчитывают Рут, Рэй Сингх был совсем близко, и его дыхание сливалось с моим. На меня повеяло ароматом гвоздики и корицы, которыми, я воображала, он за завтраком приправлял кашу. А еще на меня повеяло другим, смутным запахом, запахом близости человеческого тела, которое жило не по таким законам, как мое.