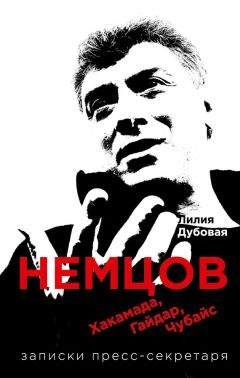«Интересно, и что я буду делать дальше?» — весело подумала она, уже подняв руки и начав импровизацию на тему «любимая жена развлекает загрустившего красноармейца Сухова». А руки сами собой уже начали двигаться в такт музыке. Мысли отлетели прочь, чтобы не мешать отдаться магии танца телу, подхваченному зажигательным ритмом. Подбежавший араб, восторженно глядя на новую русскую «Гульчатай», под одобрительные возгласы и аплодисменты гостей осыпал ее дождем из купюр. Ощущения оказались неожиданными и приятными. Она рассмеялась и, непроизвольно повторяя движения танцовщицы, плавно переместилась к сцене, где откинув голову, закружилась в колдовской, шаманской круговерти. Дородный восточный красавец преклонных лет в белоснежном костюме, неотрывно глядя на нее маслянистыми глазами, вынул из петлички гвоздику и, несколько раз проведя ею по своему смуглому лицу, бросил к ногам Александры. Что означал этот знак — она не знала. Может, берут в жены, а может, предлагают стать наложницей? Поэтому гвоздику поднять не решилась, и на всякий случай двинулась в сторону Ивана Фомича, под восторженные рукоплескания гостей.
Внесенный в зал огромный торт со свечкой в центре, отвлек внимание публики. Свеча была немедленно отброшена и заменена на свернутую в трубочку денежную купюру, услужливо подожженную официантом.
Воспользовавшись возникшей суетой, Александра быстро вернулась на место.
— Ну, вы даете! Прям переплюнули. Где учились? — Иван Фомич налил воду в бокал и протянул запыхавшейся от энергичного танца Александре.
— Импровизация на восточную тему, — обмахиваясь салфеткой, небрежно сообщила та. — Фантазия, извлеченная из подсознания, — отпила глоток воды из бокала. — Скажу откровенно, мне понравилось! А вы? Почему деньги, честно мною заработанные, не собирали? — не отказала себе в удовольствии подразнить спутника.
— Да-а… ну вы и женщина… — уклонился тот от ответа и наколол на вилку кусочек дыни. — Во, смотрите, араб ваш к вам направляется, — проглотил дыню. — Еще где-то гвоздику откопал. Сейчас в свой гарем звать будет. Пойдете пятой женой? — захохотал он, бросив вилку на стол. — Ладно, приду на помощь. Так и быть. Скажу, что ревнив и разговаривать с посторонними не разрешаю.
— Вот спасибо, век не забуду! — Александра, приветливо улыбнулась арабу, передавшему ей через Ивана Фомича гвоздику и восторги по поводу танца, которые были понятны даже без перевода. В гарем звать не решился, хотя смотрел выразительно.
* * *
В Каир возвращались вечером. Доктор Али на своей «мицубиши» отстал. Завел двигатель, но почему-то остался стоять у дома, откуда они тронулись в путь.
— Он двигатель машины, как обычно, прогревать будет, — невозмутимо пояснил Иван Фомич. — Положенные десять-пятнадцать минут. Температура в Александрии ведь ниже тридцати пяти. Значит, будет прогревать, — усмехнулся он.
Заметив изумление на лице Александры, пояснил:
— Доктор у нас, еще в Советском Союзе, на факультете автомобильной техники учился. А человек он педантичный. Скорее всего, прочитал инструкцию. По эксплуатации тяжелой техники за Северным полярным кругом. Там, видно, и написано было, что при температуре ниже тридцати пяти — прогревать долго надо. Только без знака минус написали, — Иван Фомич хмыкнул. — Потому, что нашим людям и так все ясно. А доктор — человек обстоятельный. Прочитал, запомнил, с тех пор и мучается.
— А объяснить не пытались? — сочувственно поинтересовалась Александра.
— А-а, — махнул рукой Иван Фомич. — Пытались пару раз. Да только он не верит, бормочет «мишмумкен», что означает «невозможно», и к тому же еще обижается. Говорит: «Я не богатый, чтобы мотор загубить».
Монотонный звук двигателя «тойоты» убаюкивал. Тишину нарушало только негромкое похрапывание борца за национальное достоинство россиян, вольно разметавшегося на заднем сидении. Александре же не спалось. Она с детства не могла спать в машине, вероятно, боясь пропустить что-нибудь важное по пути. А здесь, не смыкая глаз, следила за дорогой и посматривала на водителя еще и потому, что помнила регулярные сообщения российского телевидения о частых авариях на египетских дорогах. Южная ночь, бесцеремонно накрывшая землю прохладными ладонями, навевала грустные мысли. В этом, вероятно, была виновата и лекция, посвященная первой волне русской эмиграции в Египет, на которую они с Иваном Фомичем поехали после пикника на берегу.
«Что остается после людей? — грустно размышляла она, разглядывая унылый в многовековой неизменности пейзаж, пробегающий за окном машины. — Что осталось после русских, чьи кости лежат в египетской земле? Память? Нет… Или почти нет… Память — привилегия избранных. Хотя, что остается от избранных? Надгробья? Памятники? Портреты? Имена на мемориальных досках на домах, где они жили, страдали, радовались, суетились в желании быть замеченными и услышанными? И что окружает их всех теперь? Пустота. И — равнодушие. Равно-душие. Всем душам — поровну. Каждой — по кусочку пустоты».
Поморгав фарами, их обогнал автомобиль доктора Али, перестроившийся перед ними.
— Доктор Али! — весело ткнул пальцем в лобовое стекло водитель Мохаммед.
— Я вижу, — улыбнулась Александра. — А давайте-ка включим музыку, — протянула водителю магнитофонную кассету.
— Доктор Али дал мадам в машине слушать? — уточнил водитель.
Она кивнула.
…Вечные звезды, рассыпанные по небосклону, вместе с ней вслушивались в древние коптские песнопения…
* * *
Почти всю дорогу в поезде из Александрии до Каира Соловьев провел в полудремотном состоянии. Мысли были ленивы и неспешны под стать мерному постукиванию колес, неторопливому покачиванию вагона и монотонным пейзажам за окном. Хотя он испытывал нетерпение от приближения к неизвестному ожидаемому, но приглушал чувства и эмоции, стараясь аккумулировать силы и энергию, которые вскоре надлежало истратить. Приник к окну только перед Каиром, когда за стеклом поплыли треугольники пирамид…
Номер в скромной каирской гостинице «Аббат» оказался неожиданно дорог и пылен. Во всем проглядывала восточная экзотика и та непосредственность, которая поначалу не вызывает раздражения, а воспринимается как нечто естественное и неотъемлемое — подобно яркому солнцу и понурым пальмам, пронзительным призывам муэдзинов к молитве, пряным ароматам, рождавшимся от смешения десятков незнакомых запахов, ящерице, испуганно юркнувшей в щель между шкафом и стеной, несвежему полотенцу, которое «Только что было чистым!» и песчаной пыли на мебели, потому что «Кругом пустыня!» И с этим невозможно поспорить, потому что на западном берегу Нила за пирамидами к югу действительно — Ливийская пустыня и море песка.
Отказавшись от обеда, Соловьев вышел на улицу и замер, ошеломленный накатившими на него все еще непривычными звуками и пестротой одежд, среди которых его черный сюртук и высокая шляпа казались нелепыми пришельцами оттуда, где все чопорно, церемонно, серо и буднично. Он перешел улицу и оказался на набережной Нила среди шумных, словоохотливых и приветливых местных жителей и множества жующих морд верблюдов, ослов и лошадей. К нему сразу же подскочил одетый в длинную серую рубаху до пят улыбчивый араб в тюрбане на голове и с радостным возгласом «Дахабие» указал на покачивающуюся на волнах лодку. Он так убедительно говорил и размахивал руками, что уже через минуту Соловьев очутился на фелюге у Мохаммеда, который, ткнув себя пальцем в тощую грудь, несколько раз повторил свое имя, а потом добавил к нему непонятное «Марак бе». Соловьев тоже весело ударил себя ладонью по животу и сообщил, что он — Владимир .
— «Фелад-эмир», — старательно повторил Мохаммед и снова желтозубо заулыбался.
«Ну да, в арабском же нет буквы „в“»— вспомнил Соловьев рассказ антиквара о «тарабарском» языке.
На мачте фелюги заплескался парус, она вырулила на середину огромной реки к таким же остропарусным лодкам и то ли сама поплыла по течению, то ли берег поплыл мимо нее плоскокрышими домами, дворцами, садами и свечами минаретов. Вскоре слева из серо-зеленых пальмовых рощ поднялись пирамиды Гизеха, манившие мнимой близостью и издали не казавшиеся великими.
«Завтра же туда пойду», — решил Соловьев и показал Мохаммеду рукой, чтобы разворачивался обратно…
* * *
Настойчивый звонок местного телефона разорвал тишину квартиры.
— Не зайдете? — голос Ивана Фомича был устало глух. — Я в кабинете.
— Прям щас? — она посмотрела на часы. — Полдвенадцатого уже.
— Мы так работаем, — то ли похвалился, то ли пожаловался он. — Днем отдыхаем, а с семи — снова все на ходу. Очень много работы. А меня весь день не было из-за этой Александрии. Так зайдете?