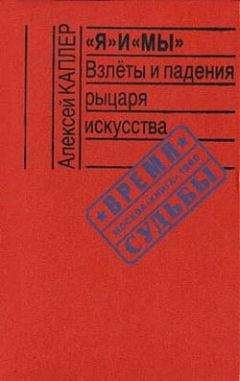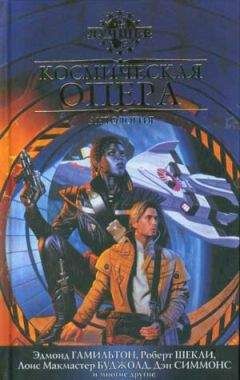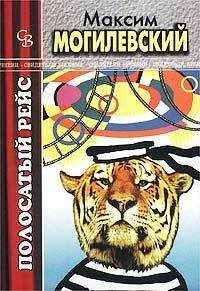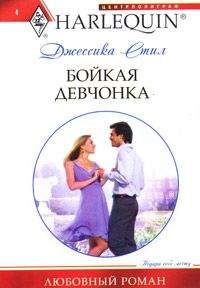— К Майке, что ли, пойти? — очнувшись, пробормотал Василий. — Поздно, автобус последний ушел уже…
И он остался сидеть в самосвале, думая о премиальных, которые получил в прошлом месяце, и о часах, которые купил на премиальные. Стекло на часах частью выпало. Стрелки, непривычно близкие, доступные, бежали по кругу послушно и торопливо, их хотелось потрогать пальцем. Часы были куплены на честно заслуженную премию, в награду за шестнадцать сверхплановых взрывов. Он вспомнил эти взрывы и свою работу. Она нравилась ему. Ему нравилась каждая работа, какую только он ни работал в жизни. Он успел уже пошоферить и поводить трактор, бульдозер, скрепер. Он работал на кране и перевозчиком на бурной таежной реке, и даже лесным пожарным пришлось ему быть. А теперь ему нравилось одиночество в тишине подземелья, висящая над головой неустойчивая порода, сине-желтые огоньки, бегущие по шнуру, юркающие в шпуры… Хорошая работа — и платят много, и отгул через день. Только пальцы от тола желтеют, и фиг их отмоешь потом, но это невелика беда… А может, податься все-таки к Вокзалихе?
Вспоминал Василий Майку всегда не целиком, а только ноги ее в чулках. Раз в неделю нужно было Василию как следует посмотреть на них для душевного спокойствия. Да и свинину с картошкой Майка жарила вкусно, и выпить у нее всегда что-нибудь найдется. Если не белое, так красное, а если не красное, то домашнего производства брага. Тревожное томление охватило было Василия, но спустя минуту стало ему противно от мыслей о Майке.
Чего-то иного просила сегодня душа.
И Василий вспомнил, глядя в ночную снежную тьму через грязное стекло разбитого самосвала, свою первую любовь — Нюру. Так ничего между ними и не было, разговоры разговаривали. Может, потому Нюра и запомнилась ему на всю жизнь?
Он ездил к ней на велосипеде за девять километров каждый вечер, а вставать на работу нужно было в семь утра; до глубокой ночи сидели они на ее крылечке и говорили. О чем говорили? Теперь он, убей бог, не помнил. И странным ему казалось: о чем же можно было говорить так подолгу? Однажды он осмелел и попытался перейти от слов к делу. Она сразу влепила ему по роже так, как в кино показывают, и заревела. Но было далеко за полночь, и жаль ей стало гнать Васю дурной дорогой девять километров на велосипеде.
И он ночевал в ее избе, на полу, валялся без сна, а на кроватях спали она, ее мать и сестра. Утром дали ему по-семейному парного молока литр, он выпил молоко и закрутил педалями. И прямо в костюме пересел на бульдозер и корчевал пни на вырубке. И заснул на ходу. Бульдозер дошел до большой сосны, уперся в нее и скреб гусеницами грунт, и выскреб до самого скалистого дна, и сел на брюхо. Тогда только Василий проснулся.
Вокруг стоял дневной лес, теплый от солнца. И Василий решил на Нюрке жениться. Но ребята потом отговорили. Она была из местных, а он — бродяга-строитель. И он все тянул резину, потому что боялся обузы.
Однажды на гулянке она подвыпила, осталась ночевать в комнате для самодеятельности при клубе. Забрался туда Федя Булыгин, парень из местных, и уговорил Нюрку назло всем строителям, назло Василию. И она пошла после того путаться.
И зимой, в январе, в лунную ночь Василий завел бульдозер и тихо поехал по синему снегу к хутору Феди. Совсем без ветра была ночь при лютом морозе и черных тенях от сосен. А Василий забыл надеть ватник, но холодно ему не было. Он долго курил метрах в ста от дома Феди Булыгина, дожидаясь, когда замутнеет от бешенства в глазах, когда закипит в груди, когда ошпарит безудержная ярость. Долго ждать пришлось, потому что чувство его к Нюрке уже потускнело, и потом — боязно было мстить цельному дому, теплому пятистенку, который плыл в сугробах в лунном свете. Но так уж было задумано. И, перекурив, Василий разогнал бульдозер и с полного хода ударил ножом в угол избы. Изба завалилась с грохотом…
На Василия повели следствие, и, хоть обошлось без жертв, пришлось ему крепко отвечать, но тут, еще до суда, призвали как раз в армию. Так все закончилось с Нюркой. И никогда больше Василий не приезжал в те края. Теперь они стали знаменитыми, там стоит у огромной реки огромная ГЭС, и над домом Феди шумит море.
Про Нюрку же Василий знал только то, что она вышла замуж, родила сына и растолстела, как баржа. Вот ее он вспомнил, и горько ему стало от старой мужской обиды. И лишь образ Феди, прыгающего по снегу в лютый мороз в одном исподнем, утешил Василия в горьких воспоминаниях. Больно смешон был тогда Федя, ничего он не мог со сна понять и волком выл, завязая в сугробах…
7
Степан Синюшкин, когда водка была допита, решил пойти искать Василия. Степан хотел спать, спина болела, ладони саднило, но водка толкала к активности. Он сунул за пазуху нож, надел брезентовый дождевик и вышел из барака. Нож он взял потому, что боялся темноты и слыхал, что вокруг шалят амнистированные уголовники. Еще никогда в жизни Степан ни на кого нож не поднимал и даже представить себе не мог такое, но все равно с ножом ему было спокойнее в осенней тьме. Был Степан пьян сильно, качался и даже разок упал в канаву. Но, выбравшись из нее, нашел-таки Василия в разбитом самосвале.
— Ты, Вася, верь — я т-тебя до гроба!.. С тобой то есть! — бормотал Синюшкин, умащиваясь в кабине. — Думал, к Вокзалихе ты подался… Не-е-т, смотрю!.. Здесь сидишь… Во, думаю, — сидит здесь Вася… живой сидит… А слону легко к-клоуна носить? Он его на шее н-носит, да, Вася?
Блики от фонаря, размытые на залепленном мокрым снегом ветровом стекле, скользили по тощему лицу Степана. И будто впервые Василий увидел его. Он всматривался с неожиданным интересом, все ближе наклоняясь к Степану, как бы даже обнюхивая. Широкое во лбу и острое в подбородке, с запавшими глазами и жидкой щетиной на впалых щеках, с морщинистой уже кожей, лицо Степана было сейчас таким смиренным и тихо-радостным, непонятным и непривычным и в то же время как будто уже когда-то виденным, давным-давно. И это давнее пахло нагретой на солнце лесной земляникой и водой Ладожского озера, пахло детством.
— Чего смотришь, Вася? — спросил Степан, смущаясь пристального взгляда.
— Черт! И на кого ты мне похож оказался? — сказал Василий, теряя вместе с произносимыми словами необыкновенность видения. — Левей, левей башку! Ну! Тебе сказано!
Степан послушно отвернулся левее, блики опять пошли по его лицу, но было оно прежним, стертым, замызганным водкой и бессемейной жизнью.
— Где-то я тебя видал раньше, — сказал Василий, наполняясь разочарованием непонятно по какой причине.
— Вот и посидим, — радостно подхватил Степан. — Спа-ать завтра до обеда б-будем, да, Вася?.. Вот, к примеру, я пью? Факт! Пью! Так?
— Ну, положим, факт.
— А вот, к примеру, почему?
— Дурак потому что. Чего припер? Звали тебя?
— Я с т-тобой до гроба!.. А пью п-потому — д-девки меня не л-любят, — вразумительно объяснил Степан. — Р-робею я с ними, ясно?
— А ты не робей, — сказал Василий и засмеялся. — У меня зуб пролезает, зуб мудрости, потому и свербило. У тебя росли уже?
— Нет, — поразмышляв, сказал Степан.
— А ты на год старше. Верно, у таких, как ты, сыромятных, они и вовсе не образуются.
— Может быть, — согласился Степан. От водки, от приятного сидения вдвоем с Василием среди непогодной ночи, от ощущения равенства с ним после трудной работы в штольне Степану так хорошо стало на душе, что даже запелось.
— «Враги сожгли родную хату, убили всю его семью, — едва слышно, в самой глубине груди завел Степан, чуть покачнувшись вперед, упираясь руками в стекло. — Куда пойти теперь солдату, кому сказать печаль свою?..»
Он знал, что запелось хорошо, правильно, и тонким, почти женским голосом, полным скорби и сочувствия, продолжал:
— «Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог, нашел солдат в широком поле травой поросший бугорок…»
Он слышал песню от геологов-москвичей, ее пели у костра. И много раз после того Степан пел ее про себя и никогда не решался завести вслух. А здесь само запелось. Он с тревожной радостью ощущал, что поет правильно, хорошо. Пел про могилу жены, Прасковьи, про то, как солдат пил из медной кружки «вино с печалью пополам», как светилась на груди солдата «медаль за город Будапешт». Степан так запелся, что забыл и про Василия, и вздрогнул, когда услышал злой голос.
— Кончай выть, угодник! Уеду я от вас всех! Уеду к чертовой матери! — сказал Василий, выбираясь из самосвала, и со страшной силой хлопнул за собой дверцу. Невмоготу ему стала Степанова тоска и беспросветность песни.
Степан ничего понять не успел, но вскоре задремал и проснулся, когда пришла Антонида Скобелева. Ей он опять начал рассказывать о слонах.
— Я в-вот все думаю, — говорил Степан. — С-слонам легко человека на шее носить? Ага, не з-зна-ешь?.. Это как тебе на горб два кирпича, понятно?.. — На этом Антонида прервала его, выпихнув из кабины самосвала в непогодную тьму проветриться.