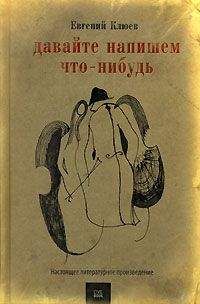- Мне можно идти? - спросил тот, не поднимаясь.
Ему никто не ответил.
Глава ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
У ВАС не все дома
Станислав Леопольдович шел по улице и ел мороженое, которое называлось "Чебурашка": это был пломбир в шоколаде - цилиндр, обрубленный с двух сторон. С одной стороны Станислав Леопольдович откусывал, с другой мороженое текло на брюки. Таков уж принцип действия "Чебурашки"…
Когда половина мороженого съелась, а вторая половина истекла, Станислав Леопольдович вытер липкие пальцы о брюки и увидел под ногами классики. Он добросовестно пропрыгал четыре клетки - больше не было - и прочитал слово "рай". В рай и прыгнул. "Вот я и в раю", - подумал он и улыбнулся. Рай… Смешное слово живых. Впрочем, теперь он тоже как бы живой - значит, и его слово.
Станислав Леопольдович стоял в раю и беспокоился о Петре Ставском. Вот уже третий день по телефону отвечали: "Его-нет-в-Москве", - больным мужским голосом. Между тем перемены, происшедшие со Станиславом Леопольдовичем, лишали ею недавно еще столь естественной возможности оказаться рядом с Петром в любую минуту: теперь приходилось довольствоваться общечеловеческими, так сказать, средствами коммуникации. О переменах этих автор скажет своим чередом, а сейчас и так много времени уже потеряно зря - из-за совершенно дурацких событий, которые приходилось излагать в предшествующих трех главах, нисколько, к сожалению, не продвинувших сюжет вперед.
Итак, Станислав Леопольдович стоял в раю и беспокоился. Кроме Петра, не было теперь у него долгов ни перед кем в подлунном этом мире. Мальчик Игорь из Сивцева Бражка, еще несколько раз встретившись с собакой Анатолием, получил наконец от родителей настоящую собаку - по счастливой случайности такую же большую и пеструю, как Анатолий, - и Станислав Леопольдович мог уже облегченно вздохнуть. Что же касается Эммы Ивановны Франк, то она… да и он… впрочем, это отдельная история. И только Петр так и не дождался ответов на большие свои вопросы. Правда, теперь он был с Эвридикой - может статься, ему и не нужен уже собеседник-оттуда: есть ведь прекрасный собеседник-отсюда… Ах как хороша Эвридика! До чего же повезло им обоим…
Вот и остановка у входа в маленькое кафе: за несколько последних дней Станислав Леопольдович наизусть выучил эту дорогу. Толкнул дверь, вошел. Сказал: "здравствуйте-Иван-Никитич".
- Здравия желаю, Станислав Леопольдович. - Старенький гардеробщик только что не вытянулся во фрунт: смешной он… - Как здоровье?
- Спасибо, не жалуюсь. А ваше?
- Да неважно вот… Ноги болят. Врачи бруфен пить велели, а в аптеках нету. Прямо не знаю, что и делать. Сегодня всю ночь ныли, ноги-то, - думал, к дождю, а дождя-то и нету никакого.
- Плохо, - сказал Станислав Леопольдович и - непонятно в чей адрес, но, скорее всего, ни в чей адрес, а себе под нос - пробубнил: - Дождь, между прочим, мог бы и быть, черт бы его побрал! И бруфен мог бы быть в аптеках: эка невидаль - бруфен!.. - Ворчливый он, оказывается, старик, этот Станислав Леопольдович!
Они раскланялись - и Станислав Леопольдович вошел в зал с твердым намерением отныне приходить на полчаса раньше, чтобы успевать поговорить по душам с Иваном Никитичем, с которым, кажется, вообще никто никогда не разговаривает.
Народу в зале было мало, и в основном бабули какие-то. Семь часов - не молодежное время. А ребята уже на сцене - и, увидев Станислава Леопольдовича, кивают ему. Хорошие они… просто удивительно, до чего хорошие, - почти такие же, как Петр. Станислав Леопольдович улыбается - каждому отдельной улыбкой: под музыку, которая потихоньку набирает силу, и Станислав Леопольдович знает эту музыку, вот уже несколько дней знает, даже слова кое-какие запомнил. Впрочем, слова звучат уже из-за сцены… бормочутся уже в микрофон где-то неподалеку - понятно, что французские, но какие именно - не слышно: так точно из толпы, на улице, долетают отголоски, осколки, обломки речи, не очень внятные и совсем невнятные: голос жизни. Однако собираются в стайку отголоски - и можно уже понять: Non, je ne regrette rein! C'est paye, balaye, oublie… Je m'en fous du passe. Avec mes souvenirs j'ai allume ie feu, mes chagrins, mes plaisirs je n'ai plue besoin d'eux…
И удивительно красивая женщина выходит сразу вслед за словами… нет, не так: слова ведут за собой удивительно красивую женщину - в густо-лиловом платье и тонком белом шарфике, в узких белых туфельках. С фиалковыми глазами и седой - может быть, чуть сиреневатой - шевелюрой… эдакая очень приблизительная стрижка. И никто не может узнать в этой почти нереально прекрасной даме всеми любимую старушечку-с-придурью, каждый вечер певшую здесь романсы. Но об этой своей репутации не жалеет прекрасная дама, ни о чем она не жалеет - даже о том, что все прошло стороной, кивнуло - и пропало, мелькнуло - и нет… Впрочем, будет еще - и не однажды будет! Откуда она знает об этом? Может быть, не первую жизнь живет уже, а вторую, или даже третью - и все понимает про себя и про нас?
…Странные вещи происходили в маленьком кафе последние два года. Кажется, это Эмме Ивановне Франк дирекция была обязана тем, что более чем заурядная забегаловка превратилась чуть ли не в "Клозери-де-лила": ансамбль "Счастливый случай" собирал теперь постоянную публику - своего рода богему… да простят автору употребление этого слова применительно к российской нынешней жизни; во всяком случае какие-то в-прошлом-студенты, в-будущем-поэты-и-художники, персонажи-вне-времени-и-места приходили сюда. И появился даже особый стиль, который старались соблюдать завсегдатаи и который ощущался случайными гостями. Между прочим, с кухни перестали воровать продукты и растаскивать их по домам, а сомнительные граждане перестали подходить с заднего хода и продавать-покупать то-чего-никогда-нет…
Эмма Ивановна Франк заканчивала сегодняшнее выступление, как и всегда в последние дни, странной какой-то песней. Аккомпанировал ей один только Павел - на губной гармонике. Простая такая мелодия, и слова простые совсем, а припев непонятный - "дол зеленый, йо-хо!" Всего неделя прошла с тех пор, как возникла в грустной московской жизни песенка эта, а кафе - безымянное бог знает с каких пор - называли уже "Зеленый дол". И подумывали даже о вывеске.
И подумывали даже о том, чтобы "Счастливому случаю", срочно переименованному в "Зеленый дол", участвовать в конкурсе вокально-инструментальных ансамблей - не победить, конечно, а просто участвовать: ни-за-чем. Опять же для разнообразия грустной московской жизни - и предъявить ей, этой грустной московской жизни, другую жизнь - жизнь в розовом свете. Причем ровно-через-три-дня!
Жизнь в розовом свете действительно была предъявлена и показана по телевизору: телевидение транслировало конкурс не целиком, но короткую программу ансамбля "Зеленый дол" представило без купюр.
Итак, ансамбль "Зеленый дол". Солистка - Эмма Ивановна Франк. Медленно вышли на сцену девушка и молодые люди, одетые в черное - с головы до ног. Заиграли тихо, нестройно, словно впервые встретились и сейчас только приноравливаются, приспосабливаются друг к другу. Кажется, еще и мелодии не было никакой - не получалось пока мелодии, не вырисовывалось… извините, дескать, мы тут случайно, мы уйдем сейчас, но вот уже и немножко мелодии - рисунок ее становится четче, уже видны контуры будущей песни, но только контуры, а что за песня - непонятно еще… Где-то почти за пределами зрения, в отдаленнейшей кулисе принимается звучать голос - очень низкий и разбитый… неэстрадный, немолодежный вовсе уж голос, которому тут не место.
И надо бы освистать этот голос, да нет сил свистеть: все силы уходят на то, чтобы слушать - слушать, вытягивая шеи… кто там поет в отдаленнейшей кулисе и о чем поет? По-французски поет, не понять о чем, но уже и неважно, о чем, только бы увидеть источник голоса, завернутый в черное, - теперь не имеет значения, каков он, источник этот! Пусть будет стар, пусть будет убог… все равно. Ну, хорошо, мы согласимся с любой видимостью, мы го-то-овы - и тогда… Источник голоса начинал приближаться - совсем незаметно, будто плыл по воздуху, и глаза болели вглядываться, мучительно вглядываться и гадать, какая же все-таки она, эта жизнь-в-розовом-свете, о которой полкуплета по-русски спел голос.
Она была черной, но вот уже на авансцене, где все видно совсем теперь ясно, она подняла голову и открыла лицо свое, эта черная-жизнь-в-розовом-свете, и сбросила к ногам накидку. В розовом - ах, в рискованно розовом платье дошкольницы, коротеньком, до колен, - предстала старая женщина Эмма Ивановна Франк перед самой молодой на свете аудиторией. Когда человеку под семьдесят, можно ли в розовом, Эмма Ивановна Франк!..
А она стояла на краешке сцены - и ослепительный свет шел от нее, нарочитый ослепительно розовый свет, в котором особенно зримо становилось все, что было в ней ветхого, дряхлого, некрасивого и вместе высокого, трогательного. Так вот какая она - жизнь-в-розовом-свете, жизнь в розовом платье, старая наша жизнь… Маленький маскарад накануне гибели!