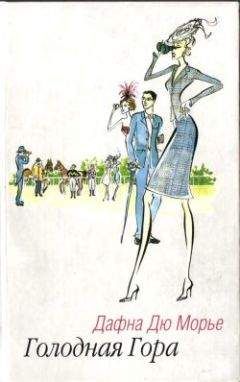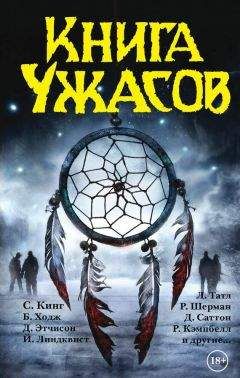Джонни отставил стакан и посмотрел через стол на мать.
– Мне кажется, настало время нам с тобой поговорить откровенно, – сказал он. – Мы много лет подряд обсуждали, как будем жить вместе в имении, когда умрет дедушка. Ну вот, теперь это состоялось, и что же? Ты сама видишь, так же, как и я, что ничего хорошего из этого не получается. Что ты намереваешься делать, принимая во внимание последнее обстоятельство?
– Что ты хочешь сказать? – спросила Фанни-Роза.
– Только то, что и тебе и мне будет лучше, если ты уедешь и станешь жить где-нибудь в другом месте, – сказал Джонни.
Фанни-Роза ответила не сразу. Она теребила пальцами скатерть, на щеках у нее появились два ярких пятна. Джонни угрюмо смотрел на мать; он ненавидел себя за то, что сделал, но в то же время знал, что слов своих назад не возьмет.
– Понимаю, – сказала наконец Фанни-Роза. – Я тебя раздражаю. Хорошо, что ты мне это сказал. Матери ведь так глупы.
Она встала, подошла к камину, постояла там, протянув руки к огню. Джонни внезапно вспомнил, какой она была двадцать лет тому назад: то же самое облако волос – теперь они выкрашены, причем неровно – вокруг лица, вспомнил, как он был ребенком, и она вдруг подхватывала его на руки и крепко прижимала к груди. Он помнил, какие у нее тогда были духи и как приятно пахло ее тело. Теперь кожа у нее под подбородком была уже не такой упругой, лицо было напудрено, причем так небрежно, что пудра оставила пятна на ее атласном платье. Сердце у него разрывалось, он отчаянно проклинал годы, которые встали между ними и через которые нельзя было перейти; из беззаботной, постоянно смеющейся девушки они превратили ее в несколько нелепую немолодую женщину. Та осталась в прошлом, а эта уже больше ничего для него не значит.
– Ну что же, не будем делать из этого трагедии, – беспечно сказала она. – Если ты хочешь жить один, слава Богу, что сказал мне об этом вовремя.
Джонни повернул свой стул и теперь тоже смотрел на огонь в камине.
– Ты не понимаешь, – сказал он. – Это действительно трагедия. Я много думал об этом – о том, что ты будешь жить со мной, о том, что мы будем делать вместе. А теперь, когда это осуществилось, оказалось, что ничего не получается, будь оно все проклято. Разве это не величайшая трагедия, которая только может произойти с людьми?
Они смотрели на огонь; он держал в руке бокал, она стояла, положив руку ему на плечо.
– Хотела бы я знать, – вдруг сказала она, – как бы все это было, если бы был жив твой отец?
В ее голосе было что-то такое, что проникло ему в самое сердце, заставило его посмотреть на нее и быстро взять ее за руку. Но когда он повернул ее к себе, она улыбалась, на лице ее не было слез, и она быстро заговорила о том, что нужно найти небольшую виллу, возможно, на юге Франции, где можно было бы проводить осень и зиму. Она часто думала о том, как это было бы приятно. Когда она была молодой девушкой, они обычно жили зимой за границей, во Франции или в Италии. Было ужасно весело. Тут, конечно, есть одно затруднение: это может потребовать больших расходов.
– К черту расходы! – сказал Джонни. – Ты отлично знаешь, что я буду давать тебе столько, сколько понадобится. Все это можно устроить.
– Дорогой ты мой, – сказала она. – Какой ты добрый и какой щедрый, – и она погладила его по голове, что было гораздо хуже, чем если бы она бушевала и кричала на него. – Как ты думаешь, не захочет ли Элиза пожить там вместе со мной, чтобы немного рассеяться, ведь ей, наверное, скучно все время в Сонби? Мы могли бы пожить в отеле и тем временем подыскать виллу. Я, пожалуй, напишу ей сегодня вечером. Из всех мест я бы предпочла Монте-Карло. Там всегда так оживленно…
Она открыла дверь и вышла, оставив его одного, и он вдруг подумал, что все это время ничего не знал о матери, о том, какое у нее сердце, какая душа. И никогда не узнает, не разбил ли он сегодня это сердце, или там нечего было разбивать, потому что у нее его нет. И никто на свете ничего об этом не узнает. Отныне только один Господь Бог когда-нибудь заглянет в душу Фанни-Розы и увидит, что там скрыто.
На следующее утро он был полон раскаяния, горько сожалел о жестоких словах, которые говорил накануне, и пошел в комнату матери, чтобы попросить у нее прощения и уговорить остаться. Он скажет ей, что слишком много выпил и не понимал, что говорит; но, войдя в комнату, он увидел, что она сидит среди кучи вещей – всюду стояли раскрытые коробки, валялись книги, шляпки, давно не надеванные платья, шарфы, пояса, перчатки – словом, реликвии, скопившиеся за много лет жизни.
– Как забавно, – сказала она, – я все время нахожу давно забытые вещи. Вот шляпка, в которой я была, когда твой отец сделал мне предложение. – И она взяла в руки помятую соломенную шляпку, крошечную, размером не более блюдца. – Может быть, наша судомойка сможет ее надеть в день Всех Святых, – добавила она, отбрасывая шляпку в сторону. – А вот твой первый башмачок, – смеясь сказала она, показывая ему крошечную красную пинетку. – Это нельзя выбрасывать, ты носил их всего несколько недель, ноги у тебя росли так быстро… Посмотри на это атласное платье. Я его заказывала, когда мы с твоим отцом ездили в Бат, провели там страшно веселую неделю. Но потом вскоре в проекте появился Эдвард, и я уже не могла его надеть, оно мне было мало. Помню, как это было досадно. Если чуть-чуть переделать, я снова смогу его носить, – и она приложила платье к себе.
Джонни смотрел на нее с отчаянием в душе. Было так грустно видеть все эти вещи, некогда составлявшие частицу ее жизни.
– Мне кажется, мы вчера наговорили глупостей, – сказал он. – По-моему, тебе стоит подумать еще раз и остаться.
– Ах, пустяки, – ответила она. – Никогда не следует отказываться от принятого решения. Я усвоила это много лет назад. Кроме того, я уже с удовольствием думаю об этой маленькой вилле, о том, как буду жить во Франции. Буду встречаться с людьми, много выезжать. Ты стоишь на моей муфте, родной. Отойди, пожалуйста, в сторону, хорошо?
И он подумал, что, может быть, она не притворяется, действительно хочет от него уехать, и это показалось ему настолько более трагичным, чем если бы она желала остаться, что он отправился в погреб и выпил полбутылки виски. На следующей неделе она уехала.
Джонни заперся в доме и ни с кем не встречался. Погода была скверная, каждый день шел дождь. Туман висел над заливом, скрывая остров Дун, и Джонни глядел из окна на тоскливый проливной дождь, слушал, как капли со звоном капают в канаву, видел, как серые тучи окутывают Голодную Гору. А потом, поскольку ему нечего было делать, он выходил из дома под дождь, шел по аллее через парк и заходил в Лодж, чтобы поболтать с Джеком Донованом. Этот человек его забавлял. Он обладал чувством юмора, правда, несколько грубоватого, и у него был неистощимый запас разных историй, связанных с обитателями Дунхейвена. Джонни, у которого чувство юмора было не более утонченным, эти истории нравились. И он, в свою очередь, рассказывал о своих похождениях за границей, выбирая наиболее непристойные эпизоды, поскольку над ними Джек смеялся особенно громко. Тот случай, когда Джонни, находясь в Турции, ворвался в гарем, когда хозяин был в отсутствии, и овладел одной из покрытых чадрой женщин, доставил величайшее удовольствие обоим Донованам, – дело в том, что Кейт Донован обычно находилась в той же комнате и готовила ужин брату, украдкой наблюдая за Джонни. У нее были гладкие светлые волосы, почти белые, причесанные на прямой пробор, и Джек говорил, что они такие длинные – гораздо ниже талии, – она даже может на них сидеть.
– А ну-ка, давайте посмотрим, – сказал Джонни.
Однако она сделала вид, что это ее ужасно шокирует, жеманилась, отказывалась их распустить, но брат стал ее уговаривать.
– Полно, Кейт, не нужно быть такой гордой, не стоит задаваться перед капитаном.
После долгих уговоров она вынула из волос шпильки, бросая взгляды на Джонни. Распущенные волосы сразу ее преобразили, превратив из ординарной молодой женщины в нечто оригинальное и интригующее, и Джонни подумал, как приятно будет погрузить в них пальцы, перебирать их, играть с ними.
Распущенные волосы Кейт возбуждали его, и вскоре почти каждый день можно было видеть, как он идет к воротам в парк, заходит в домик и проводит там несколько часов, болтая с братом и сестрой. В маленькой, пропитанной запахами пищи, душной кухне с ее жалкими тюлевыми занавесками, аляповатой фаянсовой посудой, фарфоровыми фигурками Богоматери и Святого Иосифа на каминной полке, большим деревянным распятием на стене он чувствовал себя спокойнее и уютнее, чем в пустых холодных комнатах Клонмиэра.
Мало-помалу Джек Донован начал исчезать из дома на то время, когда там находился Джонни. Его сестра приносила из кладовки бутылку виски и наливала гостю, приговаривая, что денек, дескать, сегодня холодный. Джонни наблюдал за ней поверх ободка стакана, забавляясь ее ужимками, долженствующими изображать скромность, которой, как ему было известно, у нее не было и в помине, а затем просил ее распустить волосы. Она отказывалась, качала головой, отворачивалась, но в конечном счете сдавалась. В кухне было тихо – ни звука, кроме тиканья часов – и Джонни, согретый изнутри выпитым виски, держа на коленях Кейт Донован и играя прядями ее волос, чувствовал, как его охватывает сладостная летаргия. Насколько приятнее было сидеть так здесь, чем в полном одиночестве в столовой собственного дома. Сквозь полузакрытые глаза он видел портрет Папы на противоположной стене, четки под портретом, и несоответствие между тем, что он видит, и тем, что происходит в этой кухне, вызывало у него смех, так что приходилось прятать лицо в волосах Кэт, чтобы она не заметила, как его все это забавляет.