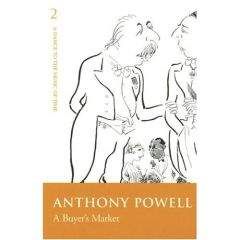— У этих уже карнавал, — сказал Эрнесто, когда мы проходили к центру ресторанного зала, к голосам, дыму и дородному мужчине, игравшему на аккордеоне. Все столы были заняты, евшие за ними люди недружелюбно смотрели на нас, раскачивались и пели.
— Наверху есть свободные столы, — на ходу пробормотал нам официант.
Потолок пересекала гирлянда бумажных цветов, на стенах вокруг фотографий и флажков с перекрещенными древками висели красные и белые букеты. Когда музыка смолкла (мужчина, толстый и старый, со светлыми, широко раскрытыми и грустными глазами над пухлыми подглазьями пьяницы, опустил инструмент на пол, встал на ноги, приложил руки к груди и без улыбки покачал лысой головой сверху вниз, благодаря за аплодисменты), Эрнесто поднялся на платформу, занимаемую музыкантом, и осматривался вокруг, разглядывая мелкую неприязнь на лицах, которые обращались к нему от столов; его грязная шляпа была на затылке, руки в карманах, подбородок вызывающе задран, с губы свисала незажженная сигарета. Он услышал, как отдельные молчания надвигаются на него и крепнут, соединяясь в кольцо; снова оглядел лица, теперь медленнее, смягчая наглость миной удивления и любопытства, которая прошлась полукругом от ржавого пятна света у подножия лестницы до облокотившегося на стойку бесстрастного хозяина, и я увидел, как он повернулся к аккордеонисту, прося спички. По сторонам зала снова зазвучали голоса, поползли вверх, к розетке потолка, перечеркнутой свисающими жесткими цветами.
Музыкант сидел с аккордеоном на коленях; Эрнесто улыбнулся мне сквозь клуб своего дыма и подмигнул. Из-за столов никто на него не смотрел, когда рядом вырос высокий молодой официант, подождал, пока Эрнесто к нему повернулся; другой официант взмахнул у меня перед носом салфеткой и сказал тоном совета:
— Наверху есть еще один столовый зал.
Раздельно, каждый до полпути в сопровождении официанта, мы направились к лестнице; когда мы поднимались, аккордеон снова заиграл и посетители хором запели что-то непонятное.
Из верхнего зала, узкого и почти неосвещенного, где были собраны хромые столы и поломанные стулья и где, кроме нас, никого не было, мы могли видеть справа от меня вход в ресторан и край стойки с облокотившимся над переполненной кружкой пива хозяином, который нарушал свою неподвижность, если к нему приближался по делу официант или надо было на прощание улыбнуться и покивать головой (угадывались сдвинутые каблуки и бессознательная попытка втянуть живот) уходящим клиентам. Внизу, слева от меня, отгороженный от зала бахромчатым занавесом, находился отдельный кабинет, который заняли уже после нашего прихода.
Эрнесто быстро съел первое блюдо, отставил второе, почти не притронувшись; посоветовавшись со мной взглядом, он заказал две бутылки вина, которое называли мозельским: «Чтобы официант не устал бегать по лестнице».
— Чего я не выношу, так это страха, — сказал он, не глядя. — Даже мысли о том, что я могу испугаться. От него не соображаешь, себя не помнишь, как будто ты никто.
— Да, — поощрил я его, но он стал пить и курить, подпирая кулаком свежевыбритую щеку, ничего не объяснив, а догадаться я не мог.
Казалось, что мы сидим за столом сразу после первой встречи у Кеки, и я с удивлением открываю на его белом нечетком лице мир, выстроенный из страха, жадности, скупости и забвения, замкнутый мир, где живут он, Кека, Толстуха и их дружки, обладатели голосов и шагов, которые я слышал сквозь стену. Он ударил меня со страха, был связан со мной страхом.
— Все, что угодно, только не это, — сказал Эрнесто, когда в зале, справа от меня, перестали петь; под вывеской «Бернское пиво» с изображением короля в короне, поднимающего кружку, хозяин безвыразительно смотрел перед собой, едва не окуная в пену своего пива двойной подбородок. — Сейчас-то я не боюсь, но страх вернется. Никогда не видел меня пьяным? Иногда я напиваюсь. Это ты вечно боялся, хотел удрать, спрятаться. У меня тоже был страх. Я могу говорить про то, что прошло, чувствую себя лучше, если говорю, мне нравится думать, что я убил ее, и говорить это тебе, и думать, что теперь она мертвая… Нет, не буду кричать. Когда я увидел ее мертвую, я не знал, почему это сделал.
Слева от меня, из отдельного кабинета медленно поднимался дым сигарет, звучали приглушенные монологи, продолжительный или короткий смех. Я налил стакан Эрнесто и поставил бутылку возле него; внизу, перекрывая аккордеон, снова запели.
— Во время войны это исполняли в «Леффлере», — сказал Эрнесто, с улыбкой распрямляясь. — Никогда не слыхал?
Я пододвинул свой стул к балюстраде, чтобы с удобством наблюдать за отдельным кабинетом. Там сидела женщина в сером английском костюме, полная, но не толстая, смуглая, лет тридцати пяти; она запускала пальцы в блюдо с виноградом, обмакивала их в воду со льдом, держала перед глазами, пока с них не переставало капать, опять подносила к блюду; другую ее руку, лежавшую на столе, сжимал белокурый парнишка, который неотрывно глядел на присутствующих, серьезный, настороженный, очень гордо откинувшись на стуле.
— Но тут швейцарцы, а война кончилась, — сказал Эрнесто.
Внизу, накрывая хрупкой рукой пальцы женщины, парнишка затягивался сигаретой, подняв голову, в изящной и трогательной позе; золотистые, беспорядочно разбросанные волосы кудрявились на затылке и висках, гладко падали на лоб. Слева от него сидел маленький толстяк с полуоткрытым ртом, подрагивая при дыхании нижней губой; желтый свет падал на его круглый, почти лысый череп, блестел на темном пухе и на одинокой пряди, приплюснутой к брови. Ближе ко мне, как раз под моим стулом, двигались худые руки и одетые синей тканью щуплые плечи; у этого человека была маленькая голова, влажные причесанные волосы. Еще кто-то невидимый стоял за человеком в синем костюме у отделяющего кабинет занавеса, я слышал его смех, видел обращенные к нему взгляды.
— Я только спрашиваю, — сказал маленький толстяк (у него был тонкий выгнутый нос, в этом носе, в отваге и повелительном выражении, которое он сообщал лицу, как бы сохранилась молодость; зацепившись большим пальцем за жилет, толстяк ритмично двигал туловищем от стола к спинке стула, словно трясся в машине по плохой дороге), — хочу только спросить, законно это или нет. Мы работали на основании постановления муниципалитета за номером две тысячи сто двенадцать. Разве для его отмены собиралось заседание совета?
— Вы, чего доброго, написали его сами, — насмешливо сказал невидимка. — Есть приказ губернатора.
У входного занавеса оказался еще один человек, старик, который прохромал вперед, не снимая шляпы.
— Посмотрим на вещи трезво. — У него был испанский акцент, ироническая манера цедить слова; он обошел уронившего голову толстяка, который продолжал раскачиваться. — С вашего позволения, — сказал он над парнишкой, над его детской рукой на руке женщины, налил себе стакан вина, глотком осушил его, с хрипом погладил седые усы, наполнил стакан опять, сделав струю длинной, тонкой и звучной. — Посмотрим, сказал слепой. Вы, Хунта, жуете одно и то же до отвращения, надоедаете сеньоре и доктору и ничем не можете помочь. Совет, постановление. — Он отсалютовал стаканом женщине и человеку в синем и взглянул в сторону занавеса. — И наш друг, который столько раз делал честь заведению и самому себе, содействуя его процветанию, теперь выполняет свой долг. Не докучайте ему, Хунта, адвокатскими доводами, на которые он не может ответить. — Человек, стоявший у занавеса, опять засмеялся и вытянул руку. — Не мучайте сеньору, Хунта. Все ваши стенания…
— Незачем называть меня сеньорой, — прервала его женщина, освобождая ладонь, чтобы зажечь сигарету; парнишка, словно разбуженный, с беспокойством огляделся. — Для друзей я Мария-Бонита.
— Спасибо, — сказал старик, прикасаясь к шляпе; он смотрел на женщину поверх очков и сквозь них.
— Я уже говорила мальчику, — продолжала она, похлопывая того по щеке, — все дело в том, что священник сошел с ума. Он вздумал учить меня, как надо почитать бога.
— Очень может быть, — сказал старик. — Не исключено, как предположил доктор, что все это не что иное, как этап вековой борьбы между обскурантизмом и просвещением, которое представляет наш друг Хунта.
Маленький толстяк вскинул плечи и руку, которая опиралась на стол; его большие выпуклые глаза уставились на женщину и человека в синем.
— Почему совет не отсрочит закрытие? — произнес он дрожащим голосом, задыхаясь. — На карту поставлен престиж совета.
— Что он может поделать! Приказ губернатора, — сказал невидимка.
— Вы видите, доктор? — спросил старик. — Хунта не только боролся за свободу чрева, цивилизацию, честную торговлю и что там еще, всего не упомнить. Он к тому же неуклонно заботился о соблюдении конституционных заповедей. Все будет удостоверено и не забудется. Но, сеньора, вина не на одном священнике. Запальчивый священнослужитель повинуется духу града Санта-Мария, в коем мы пребываем за грехи наши. Счастливы вы, что его покидаете, притом в почетном сопровождении нашего друга. — Когда он сделал шаг назад и, подняв стакан, зачастил: «Аве Мария, грациа плена, доминус текум, бенедикта ту…»[23] — он не совсем паясничал.