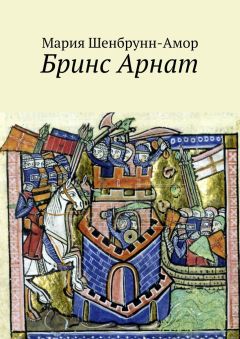— О чем ты, дорогая? — откликнулся он, стремясь продолжить свое движение.
— О кастрюле. Зачем она тебе понадобилась?
— А, это не сейчас, это потом! — поспешил он отвертеться и снова набрал заветный номер.
На этот раз трубку сняла сама фру Юнсон. Мартин для приличия слегка полюбезничал с ней, а потом спросил:
— А нельзя ли на минуточку, на одну крошечную минуточку, попросить к телефону нашу милую гордячку, нашу сердитую Линду? Скажите ей, фру Юнсон, что у дяди Мартина есть для нее небольшой сюрприз. — И игриво хихикнул.
На той стороне произошло некоторое замешательство, видимо, милая гордячка и вправду сердилась и отказывалась от продолжения совершенно ненужных и досаждавших ей разговоров, но потом под нажимом матери все-таки сдалась. Мартин просиял и умудрился почти слово в слово повторить все, что уже сообщил пятью минутами раньше. Когда он повесил трубку, я не выдержала:
— Послушай, по-моему, это переходит все границы.
— О чем ты, дорогая? — насупился он.
— Это просто неприлично. Надеюсь, ты не забыл, что между тобой и крошкой Линдой существует значительная разница в возрасте?
— На что ты намекаешь? — возмутился он и горделиво вскинул подбородок.
— Я не намекаю, я говорю абсолютно прямо и недвусмысленно: неприлично пожилому дяде вязаться к тринадцатилетней девочке. По пять раз на дню выискиваешь предлоги для абсолютно пустых и бессмысленных бесед.
— Каких бесед? — засопел он. — Дорогая, я не понимаю тебя. Что с тобой? С какой целью ты это выдумываешь: я в последний раз разговаривал с Линдой месяц назад!
За ужином мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами, Мартин вдруг оживился, разрумянился — от горячего чая, что ли? — принялся сыпать своими любимыми, на протяжении многих лет отточенными шуточками и снисходительно задирать нас. Ни я, ни дети не разделили его внезапной веселости.
— Вы снобы, — провозгласил он. — Вы все снобы!
Я уложила детей спать и ушла в свою комнату. Он остался сидеть перед телевизором.
Забыться и уснуть не удавалось. Перед закрытыми глазами мелькали обрывки каких-то грязных, мучительных сцен, припоминались, то неясно, то резко, неприятные злобные лица, лезли в голову мотивы мерзких советских песен. Наконец я не выдержала, встала и направилась на кухню, чтобы разогреть себе молока с медом — как известно, этот напиток обладает успокаивающими свойствами.
Мартин по-прежнему сидел в кресле перед телевизором, глаза его были полуприкрыты, рот широко распахнут, из горла вырывался не то храп, не то хрип. Я тронула его за плечо, он не отреагировал, но голова скатилась на сторону и хрип сделался более натужным и прерывистым. Я бросилась к телефону и вызвала амбуланс.
Прибывший совсем еще молоденький врач возмутился, почему я вызвала обычную машину, а не реанимационную.
— Вызовите то, что считаете нужным, — подсказала я и набрала номер Эндрю.
После пяти или шести гудков откликнулась наконец сонная Агнес, пробурчала сипло, что в данную минуту Эндрю не может подойти к телефону, но сейчас же выезжает к нам. Врач сделал Мартину какой-то укол и потребовал, чтобы я показала ему лекарства, которыми пользуется мой муж. Я пошла в спальню и вытащила из тумбочки объемистую картонную коробку, битком набитую какими-то таблетками и капсулами.
— И все это он принимал? — воскликнул целитель, порывшись в снадобьях.
— Не знаю. Откуда я могу знать?
— Как это вы не можете знать? Как вы могли допустить такое! — вознегодовал он.
— Странно, — сказала я, — вы рассуждаете так, как будто речь идет об умственно неполноценном. Каким это образом я могла что-то допустить или не допустить? Он взрослый человек и поступал так, как считал нужным.
— Да, разумеется, — буркнул врач. — Взрослый! Слишком даже взрослый. Судя по этим запасам, прикладывал немалые усилия к тому, чтобы сделаться помоложе.
«Доживите, уважаемый доктор, до его лет, а после судите, — хотелось мне одернуть нахала, — в ваши годы легко посмеиваться над старичками». Но я только вздохнула и благоразумно промолчала.
Минут через пять прибыла реанимационная команда, Мартина уложили на каталку и принялись колдовать над ним. Хрип то стихал на несколько секунд, то вновь возобновлялся. Я радовалась, когда он возобновлялся. Потом мне объявили, в какую больницу его увозят, и поволокли каталку к дверям. Мне надлежало ждать Эндрю. Как только он появился, мы вместе отправились в больницу.
— Дети остаются одни, — сказала я тоскливо.
— Ничего, — успокоил он на ходу. — Ничего не случится. Мы с Миной постоянно оставались одни.
С этой ночи началось мое почти круглосуточное пребывание возле больничной койки. Фру Юнсон, золотое сердце, взяла под свою опеку детей. Возможно, я была не права, но я не позволяла им навещать отца. Я не хотела, чтобы он запечатлелся в их памяти таким — несчастным, разбитым, беспомощным, опутанным проводами и шлангами, с распахнутым беззубым ртом и остановившимся бессмысленным взглядом. Как же это нечестно, неправильно — превратить такого великолепного мужчину в жалкую, убогую развалину. Судьбе недостает элементарного хорошего вкуса…
Врачи упоминали закупорку какой-то артерии и произносили многие умные слова, из которых мне удалось уловить лишь «медикаментозная интоксикация» и «цианоз», попеременно взвешивали предпочтительность то активного вмешательства, то терпеливого ожидания естественной очистки организма от переполнивших его ядов, уповали на вероятное самовосстановление жизненно важных систем и улучшение состояния, но это улучшение если и происходило, то очень медленно и вяло.
Смешно было бы отрицать мою вину. Я обязана была хоть что-то заметить, обратить внимание на все эти странности, начиная с необъяснимого эпизода на катке, когда болезненно честный и принципиальный Мартин так легко и небрежно простил своему бывшему приятелю, бесстыжему Стольсиусу, оказавшемуся гадким, недостойным мошенником, все его возмутительные подлости (так и оставшиеся, кстати, мне неведомыми). А чего стоит неуемная нежная опека юной леди, малышки Линды, да, в общем-то, и вся неожиданная дружба с Юнсонами? А внезапные приступы обидчивости и раздражительности? И многое другое. А я не желала вникать, небрежно отмахивалась, взирала свысока и издалека, на все смотрела сквозь пальцы. Приписывала внезапную забывчивость и слезливость возрасту и старалась не видеть тревожных знаков…
Вскоре к моим бдениям присоединилась фру Брандберг, прикатила откуда-то высокое инвалидное кресло, величественно взгромоздилась на него и замерла вместе со своей великолепной прической, упершись недвижным взглядом не то в Мартина, не то в какую-то таинственную точку в пространстве. Годы идут, а прическа не меняется. Поначалу я думала, что ее присутствие позволит мне время от времени отлучаться домой, хоть немного приглядывать за детьми и за хозяйством, но вскоре убедилась, что это была напрасная надежда. Она регулярно, будто на службу, являлась утром и сидела до вечера, но совершенно отрешенная от всего окружающего, застывала безмолвно с остановившимся взглядом и приоткрытым ртом и составляла вполне достойную пару для Мартина в его нынешнем положении, только что не хрипела при дыхании. Медперсонал не обращал на нее никакого внимания.
Каждый день после обеда, примерно в одно и то же время, возникал Эндрю, беседовал с врачами — подробно и дотошно выспрашивал о результатах анализов и обследований, но, получив все необходимые разъяснения, тут же удалялся.
Однажды появилась и Агнес, обвела палату брезгливым взглядом и без всякого стеснения кивнула в сторону фру Брандберг:
— А она что тут делает? Отдыхает от домашних неприятностей?
Я промолчала.
— Так что ты собираешься предпринять? — поинтересовалась моя невестушка.
— В каком смысле — предпринять?
— То есть как — в каком? — хмыкнула она. — Надеюсь, тебе известно, что к первому января вам предстоит освободить квартиру.
— Освободить квартиру? Зачем? С какой стати?..
— Замечательно! — возликовала она. — Ты что, действительно ничего не знаешь? Не знаешь, что квартира заложена и перезаложена? Неужели он посмел не поставить тебя в известность?!
Из ее рассказа складывалась следующая картина: год назад господин Стольсиус, на правах давнего приятеля, втянул Мартина в какую-то авантюру, соблазнив перспективой крупной и верной прибыли. Деньги на первоначальные затраты были добыты в банке под залог нашей квартиры. Разумеется, и это предприятие окончилось точно так же, как все предыдущие затеи моего дорогого мужа, — полным крахом. Сославшись на разные неучтенные неблагоприятные обстоятельства, Стольсиус категорически отказался возместить свою часть убытков, поэтому Мартину не оставалось ничего иного, как взять еще одну банковскую ссуду — под гораздо более убийственные проценты. Расчет его был верен: он приобрел биржевые акции, в тот период стремительно возраставшие в цене. Через два-три месяца стоимость их должна была составить такую значительную сумму, что этих денег хватило бы и на выкуп квартиры, и на погашение долга. Разумеется, не прошло и трех дней, как биржа упала, рухнула, разразились кризис, глад, мор и всемирный потоп, и акции утратили более половины своей стоимости. Чтобы хоть как-то еще продержаться на плаву, Мартин перезаложил квартиру на совершенно уже безумных условиях. Теперь же, когда все опции оказались вычерпаны до дна, а сам удачливый предприниматель благополучно переместился под больничные своды, мне надлежало в месячный срок освободить помещение да еще остаться с солидным долгом на шее. Поведение Мартина Агнес не удивляло, она, оказывается, давно его раскусила, удивляло ее только одно: как я могла целый год ничего не замечать и ни о чем не догадываться?