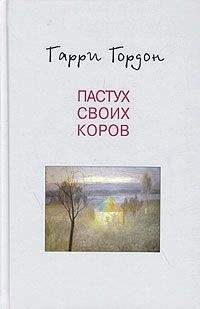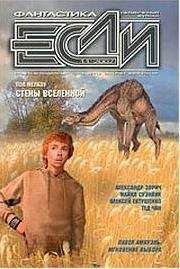В буфете было тепло, и свет был золотистый, как пиво, и пиво оказалось ничего… Все это только усиливало чувство вины. Карл смотрел в синее окно с размытыми в тумане фонарями.
— Не нравится мне тот штымп, — озабоченно сказал Парусенко, — только сразу не поворачивайся.
Карл медленно повернул голову. За противоположным столиком, у стены, смотрел на них человек лет тридцати, светловолосый, с гладким младенческим лицом, и фигурой он напоминал младенца, огромного, меняющего очертания в оранжевом тумане. Только в глазах его не было печального всезнания новорожденного. Он был похож на мертвого младенца.
— Тюлькой нашей интересуется, — размышлял Парусенко, — ОБХСС, не иначе.
Незнакомец решительно подошел к столику и сел на свободный стул.
— Извините, — горячо сказал он. — Где можно достать такой рыбки?
— Угощайтесь.
— Спасибо. Это хамса? Соня, три пива, — крикнул он буфетчице. — Мужики, вы не подумайте… Валера меня зовут. Я фотограф, бабки собираю по округе. Сам из Запорожья. Эту рыбку, я так понимаю, хрен купишь, а мне бы с собой увезти, хоть кило, хоть два. Сделаете? А то был на море…
Валера был убедителен. Так не сыграешь.
— Ладно, — сказал Парусенко, — постараемся.
— Любые бабки, — улыбался Валера.
Парусенко обернулся к Карлу.
— Сколько на Привозе такая?
— Пять рублей кило.
— Положим, четыре.
Карл не возражал: завышенная цена усугубляет факт воровства.
— Днем дома будешь?
— Целый день. Номер тринадцать, на втором этаже.
Парусенко встал рано, громко шевелился над спящим Карлом, и наконец равнодушно произнес:
— Надо сходить отметить командировки. Заодно и рыбки взять.
— Пойдем, — равнодушно сказал Карл, что-то подозревая.
— Вот ты и сходи. А я пока…
— Что пока?
— Понимаешь, — мягко сказал Парусенко, — я официальное лицо. Если что… сам знаешь. А ты — наемник. С тебя взятки гладки. К тому же у меня нога что-то разболелась. Альпинистские травмы. Сходи. Бабки выручим — поставишь пузырь своему Нолику. Да и перед человеком неудобно. Обещали все-таки. Ладно, все! — Парусенко поменял интонацию. — Я начальник!
— Это ты в поле начальник, — грустно отмахнулся Карл, — а здесь ты гамно.
Резон в увещеваниях Парусенко был — и с Ноликом попрощаться, и обещание сдержать.
— Давай бумаги, — вздохнул Карл, — и портфель.
— Портфель не дам, — быстро отозвался Парусенко, — провоняет.
— Да что же я, в руках понесу?
— А вот тебе авосечка!
Секретарша молча шлепнула печати, дату оставила открытой, пожелала счастливого пути. Карл зашел в коптильню.
— Здравствуйте, а Нолика нет? — слишком бодро и слишком громко спросил он.
Алена неприветливо оглянулась.
— Вам лучше знать, где Нолик. Нам он не докладывается.
— Ну, я пошел. Мы уезжаем. Может, увидимся… — проговаривая эти глупости, Карл топтался на месте.
— Подожди, — сказала Алена, вышла в соседнее помещение. — Вот, на дорожку. Тут и ставрида, и скумбрия и тюлечки немножко…
— Мне бы вообще-то тюлечки килограмма два, — отчаянно обнаглел Карл.
— Лида, набери, — обратилась Алена к пожилой женщине.
Беспечно помахивая авоськой, Карл пошел на проходную.
— До свиданья, — прокричал он мужику за стеклом, правдиво глядя ему в глаза. Тот что-то буркнул.
Едва Карл ступил на обочину дороги, подкатил знакомый милицейский «газик». Сержант вышел и открыл заднюю дверцу.
— Садись.
«Вот и все, — подумал Карл, — как просто…» Машина тронулась.
— Закончили? — спросил сержант, не оборачиваясь.
— Да, к сожалению… Хорошо тут у вас…
— Что ж хорошего, — сержант ухмыльнулся, — или Нолик наш понравился?
— А что, Нолик — классный мужик.
— Когда спит зубами к стенке, — отозвался водитель, сосредоточенно воюя с дорогой. Машина елозила в жидкой каше, ревела, вставала на дыбы, дворники размазывали грязь по лобовому стеклу.
— А за что он сидел?
Сержант с трудом обернулся и, глядя Карлу в глаза, с расстановкой произнес: «За особо опасные деяния», — и отвернулся.
— Ничего-то он ничего, — продолжал водитель, — вот только пьяный он — не дай Бог! Раз в месяц накатывает, скоро уже. На этот раз подловлю гада. Родной мамы не видать!
Машина выровнялась и пошла быстрее. Дорога кончилась, и ехали они по городской брусчатке. Карл пытался определить, где они находятся, но в мутном стекле видны были только побеленные деревья, темные прохожие и подворотни. Наконец машина остановилась.
— Вылазь, землемер, приехали, — торжествуя, сказал сержант. Карл решительно открыл дверь. Перед ним была гостиница. «Газик» рванул и скрылся в боковой улице. «И тут не попрощался», — подумал Карл и, ликуя, взлетел на крыльцо.
Парусенко от нечего делать поглядывал то на часы, то в окошко. Проехала грузовая платформа, запряженная битюгом. Такие исчезли в Одессе лет двадцать назад, да, в конце пятидесятых. А вот подъезжает «луноход», как говорит Нолик. Из машины вышел Карл с авоськой. У Парусенко вспотели ладони. Он прислонился к стене спиной и затылком и замер. Вошел Карл.
— Закрыл командировки? — спросил Парусенко, глядя на авоську.
— Ты был прав, Нолику пить сейчас нельзя. Мне менты кое-что порассказали.
— Старших надо слушать, — фыркнул Парусенко и принял боксерскую стойку. Карл сделал ложный выпад ниже пояса.
В тринадцатом номере на стук никто не отозвался. Постучали еще раз и толкнули дверь. Валера, очень пьяный, спал сном младенца. На столе пластами лежала разноцветная кипа денег. Парусенко потряс спящего за плечо и махнул рукой:
— Да он и до завтра не проспится.
Карл положил пакет с тюлькой на подушку прямо перед носом спящего, послюнил палец и выудил из-под кипы, как экзаменационный билет, трешку и пятерку. Пили за Нолика, за геодезию, за святое искусство и, конечно же, за прекрасных дам.
Лонг полулежал на кровати, вытянув загипсованную ногу и стараясь поудобнее примостить другую — ныла она нестерпимо, особенно под коленкой: то ли ревматизм, то ли артрит, а может, отложение солей; поточнее диагноз установить не удавалось — врачи были свои, гениальные, но бесплатные. Серёга Разводной утверждал, что нужно мазать лиманской грязью, срочно ехать на Куяльник, пока всю грязь не вывезли в Россию, — завелось там уже некое акционерное общество. А великий Боксерман, наоборот — ни в коем, говорит, случае, это такая нагрузка на сердце! Кого слушать? Наверное, Боксермана, он гинеколог, всё-таки ближе, а Разводной всё больше по уху, горлу, носу.
В комнате был полумрак, занавески плотно задёрнуты, сквозь щель пробивались пасмурные блики, не скажешь, что на улице тридцать пять. В потолок смотреть не хотелось — его давно пора побелить, на дореволюционной лепнине лежал слой пыли и копоти, выявляя рельеф и сообщая помещению некоторую музейность. Из-за этого четырёхметрового потолка и случился перелом той, здоровой ноги — полез на антресоли, педаль искать от Вовкиного велосипеда, одурел в духоте и промахнулся мимо стула, стоящего на столе.
А весь город ржёт, думают — по пьянке. Навещали сначала, что-то даже приносили, а потом исчезли, растворились в жаре, высохли. Только Рыба приходил недавно. Положил заботливо гипсовую ногу себе на колени, долго что-то рассказывал, а сам вырезал на гипсе неприличное слово, белое на сером. Лонг пытался потом, кряхтя, с трудом дотягиваясь, затереть его пеплом от сигареты, но получилось ещё хуже. За этим занятием застукала его Соня, разозлилась, обозвала старым идиотом.
Словом, полный завал. Вовка — вылитый дистрофик, смотреть страшно, Соня побирается по знакомым, а сам — кому нужен в самостийной Украине сорокатрёхлетний историк Древнего мира?
И пить не хочется, если бы и было. Лонгу стало даже интересно: что будет, скажем, послезавтра? Должно же что-то быть.
Ну, прохохмил всю жизнь, душа общества, прокаламбурил, шмурдило лилось рекой, толпились весёлые тёлки. Что ж за это, убивать?..
Вошёл Вовка.
— Где мама?
— Скоро придёт. Посмотри там в холодильнике, она оставила. Хотя… дай костыль.
— Не надо, я сам.
Вовка покрутился по комнате, порылся в ящике стола, достал ластик, примостился на кровати и принялся стирать пепел с надписи.
— Дохлый номер, — усмехнулся Лонг. — Оставь, это про меня.
Вовка соскочил с кровати и подошёл вплотную. Боже, какой он бледный, и на море не с кем отправить.
— Папа, — попросил Вовка. — Сотвори «муху».
Лонг сложил два пальца в колечко, стал водить ими по воздуху, петляя и кружа, издавая при этом плотно сжатыми губами жужжание, богатое модуляциями, от высокого комариного звона до шмелиного гудения. Светлая муха кружила в полумраке комнаты, барражировала над Вовкиной головой, спиралью уходила ввысь, разворачивалась, вновь снижалась и внезапно села на Вовкино темя, резко смолкнув.