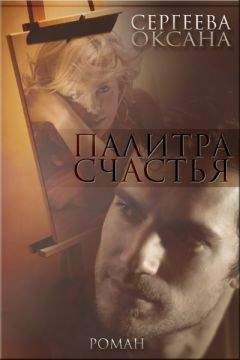Наконец Мишка сонными пальцами набрел на нужную станцию. Блеснул одобрительно, подстраиваясь, зеленый глазок индикатора, высветил кусочек стены. Виолончели и скрипки несут мягкий, переливающийся, словно бы на зыбкой волне покачивающийся, танец. Легкий и счастливый, напоминающий о земле, о ветре, о девчоночьих ситцевых платьишках парусом, беге по травяному склону, цветастых солнечных дамских зонтах, о чем-то вычитанном, но сладком, карусельно-кружевном, о воображенной, приснившейся любви… черт знает что за наголос. Знаком он Димке до слез, до вскрика — но ускользает имя, переливается, колышется вместе с танцем. И тает что-то внутри от предчувствия непонятного любовного блаженства, и весь растворяешься, плывешь. И тише, все тише, слабее — замирает, тонет в воде недолгое счастье, и вот уже ударяют барабаны и вступают медные огромные трубы, вначале негромко, как бы просыпаясь, предупреждая, а затем все сильнее, увереннее, и уже зло, могуче, неотвратимо, и уже топчут, словно сапогами, сникший танец, заполняют собой все пространство, от края до края, и шагают, и давят, давят.
Что это — война? Увечье? Пламя огнемета? Может, просто придавило грубой силой легковерную радость жизни, может, просто теснота коммуналки, дымящие керогазы, очереди, карточки, пайки? Может — блокада? А может — урки обступили, трюмят, издеваются? Не выбраться из-под этого тяжелого, бухающего.
А медное, тупое, тяжелое — неодолимо, как удары судьбы, как поражение, разгром, как оккупация, как извещение об отце. Оно не убивает вовсе светлый наголос, мечту, юность, но впитывает в себя, ломает, переваривает и превращает в траурный марш, в кладбищенскую покорность, и торжествует от своего всесилия. Иногда лишь редко, жалуясь, всплакивают скрипки, но это судороги счастья, клочки воспоминаний. Ухает медь. Это увечье навсегда. Оно будет давить, гнести, принуждать к полной сдаче.
Но вот из-под сапог, из-под колдуньего медного кашля, из-под затихающей бомбежки — какой-то радостный сердечный стук. Слабый, но постепенно расклинивающий, пробивающий могильную асфальтовую оболочку. И сквозь трещины — к воздуху, к жизни. Быстрее и громче, уже как цокот копыт, как галоп, бешенство драки, самозабвение боя. И в этом стуке, как в охранительных ладонях, как в защитной зоне артогня, — снова танец, он извивается, ускользает от медных ударов, и стремится ввысь, и достигает вершины, и сыплется сверху все настойчивее, яснее, победнее. Начальный нАголос танца окреп, и это уже не кружевные солнечные зонтики, не ситцы, не наивные мечтания юности, но ясная, бодрая, мускулистая зрелость, готовность к борьбе. Может быть — бессмертие? Вечность жизни? Любви? Димка не знает, как понять эти звуки, но на глазах его слезы. Он счастлив, что музыка вошла в него, проникла в каждую клеточку, словно бы приподняла и заставила ощутить легкость полета. И не картинки плыли перед его глазами, но сама мысль, синоним жизни. Ну, неужели он, Димка, проник в этот мир? Открыл? Сумел?
Еще на первом курсе натаскивал он себя, изводил, заставлял покупать билеты в Колонный, в консерваторию, сидел, не дыша, мучился от того, что не может проникнуть в страну, доступную многим другим. Да так и бросил, отчаявшись. Ну, откуда, откуда это возьмется в нем? Москвичей из хороших семей водили в концерты с малых лет, объясняли, они вслушивались в голоса альтов и басов, научались их различать, они не по словарику знали, что такое гобой или валторна, им пластинки крутили по вечерам. А он — хорошо, если услышит инвалидскую скрипочку на свадьбе, а чаще просто бабьи протяжные песни на вечерней заре. И они были для него не музыкой, а частью села, частью жизни — как закат, птицы, молоко, деревья. Потом, в первый послевоенный год, он стал по соседскому приемнику ловить музыку недальнего радиомаяка. Там крутили одну и ту же оперетту «Мистер Икс». Загадочный красавец пел: «Устал я греться у чужого огня, но где же сердце, что полюбит меня…» Он слушал эти арии без конца, млел от счастья и влюблялся вместе с мистером Иксом. Потом его поразила музыка трофейных кинокартин — «Серенады Солнечной долины» и, особенно, «Девушки моей мечты», фильма, который метеором пронесся по кинотеатрам и клубам, собрав миллионы, и скоропалительно исчез, как бандюга с мешком. Вот и все музыкальное образование.
Димка самонадеянно, напрямик, бросился осваивать московскую культуру и истязал себя в мягких креслах, в свете электросвечей, которые отражались в мраморе колонн; он боролся со сном, подступавшим при разнобойных звуках настраиваемых музыкальных орудий. Он щипал себя, прикусывал язык, но сон слетал со скрипок и валторн и садился ему на веки. Однажды случилось непоправимое. Димка увидел объявление о «Крейцеровой сонате», исполняемой известнейшим дуэтом, купил дорогой билет в первые ряды и, стараясь разбудить в себе ценителя, бросился в библиотеку, взял Толстого, прочитал — внимательно, бережно, наслаждаясь, для себя, а не для сдачи экзамена — знаменитую повесть и отправился на концерт почти на цыпочках, готовый к чуду. Зал был светел, натоплен, уютен, кресла мягки, и вокруг были юные очаровательные девушки с легкими прическами, старушки с невиданными крупными перстнями и серьгами, долговязые юноши в очках. О, изумительный мир! Димка, как никогда, был готов к чуду, он приготовил уши и душу для первых прекрасных звуков. Он знал, что его всегда отвлекают от проникновения в музыку подробности окружающей жизни, лица, спины, руки слушателей, но особенно сами музыканты, их костюмы, потертость ткани на локтях или коленях, движение рук и ног, надутость багровых щек у духовиков, взмахи ударников; глаза мешали Димке, не давали ему погрузиться в пенистый поток симфонического звучания. Однажды его совершенно извела прославленная солистка, исполнявшая концерт для фортепиано с оркестром — полная, тяжелая, с пышными формами, она едва умещалась на стуле и вся подпрыгивала, и каждая часть ее тела вздымалась вслед за взлетом рук и, чуть опаздывая, опадала, и казалось, черное платье не выдержит этой тряски, лопнет, и Димка так переживал за солистку, что ничего не слышал. Можно было просто закрыть глаза — но тогда становилось скучно.
В тот памятный вечер выяснилось, что он допустил ошибку, невнимательно прочитал афишу. Дуэт, исполняющий сонату, выступал во втором отделении, первое было отдано квартетам Гайдна. Но это лишь подогрело радостные предчувствия. Сначала — легкий, светлый Гайдн. Димка помнил из какой-то книжки, что в инструментовке Гайдн прямой предшественник Бетховена. Стало быть, все было логично, правильно. Гайдн открывал узорчатую дверь. Так вечер начался для него с появления четырех полных, неуклюжих, несомненно только что отобедавших музыкантов, похожих на продавцов из военторга. Димка ожидал сверкающих глаз, мечтательной худобы, нервных длинных пальцев, страсти и нетерпения и был совершенно разочарован. Блеск золотых коронок окончательно убил его. Между тем зал, долго аплодировавший появлению квартета, замер в предчувствии виртуозной игры. Музыканты не спеша опробовали струны, переговаривались, и у одного из них на отворотах фрака под грушеподобными щеками поблескивала, как концертные блестки, перхоть.
Димке пришлось закрыть глаза. Ему было неловко чувствовать себя профаном среди ценителей. Сегодня или никогда — решил он. Я одолею эту сонату. Увы, увы, лучше бы он не закрывал глаза, лучше бы глядел на перхоть и на смычки. Квартет Гайдна был нежным и напевным. Он приласкал студента, навеял грезы. День был морозный, Димка, растратившись на билет, ничего не ел, ослаб, и в тепле и уюте зала, на бархатном сиденье гнутого гостеприимного стула, смертельно, непробудно заснул. Справа и слева сидели две престарелые меломанки. Сначала Димка валился в сторону-то одной, то другой старушки, щипал себя, но потом растворился в музыке. Его духовное блаженство перешло в телесное. Не Гайдн, а крепкий сон привел его к Бетховену. Ни Толстой, ни драматическая история, ни виртуозная игра ничего не могли с ним поделать. И это в десяти шагах от сцены, на свету… Димка уходил, чувствуя на себе десятки взглядов. Неуч, жалкий провинциал, ничтожество… Меломанки смотрели на него как на хулигана.
Больше серьезной музыки он не слушал и на билеты не тратился, разуверившись в себе. И вдруг — здесь, в жалком бревенчатом сарае у печки, измученный переживаниями, страхом перед будущим, под сопенье Валятеля — он был оглушен симфоническим потоком, растворился в нем, и услышал голос каждого инструмента, и понял его, и понял творца, что соединил столько звуков в единое целое. Димка лежит потрясенный.
— Мишка, что это? — спрашивает он сдавленно. — Что это?
— А, ты не спишь? — Валятель щелкает крутилкой, и зеленый отблеск глазка гаснет. — Чайковский. Знакомое.
— Но что, что?
— Кажется, «Итальянское каприччио».
— А ты понимаешь? Понимаешь?
— Не знаю. Кажется, что понимаю. То есть не понимаю, но лечу куда-то, — еле слышно сипит Валятель. — Слушаю и летаю.