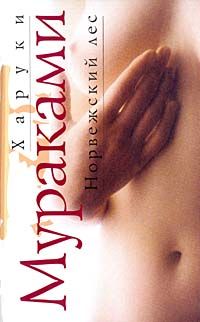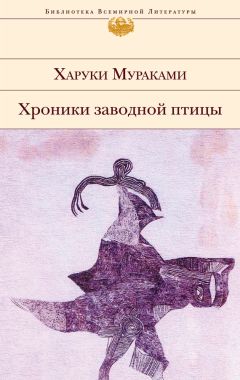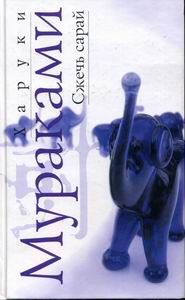— Так точно помнишь?
— Друг мой умер ночью того дня, когда мы с ним в биллиард играли, вот и помню.
— И ты поэтому после того бросил в биллиард играть?
— Да нет. Таких особых намерений не было, — ответил я, подумав. — Просто повода не случалось в биллиард играть. Вот и все.
— А как твой друг умер?
— Авария.
Она забила несколько шаров подряд. Глаза ее были очень серьезными, когда она решала, куда направить шар, и удары по шарам она наносила точно выверенными усилиями. Я глядел, как она откидывает назад аккуратно уложенные волосы, поблескивая золотыми сережками, ставит ноги в туфлях, похожих на бальную обувь, в нужную позицию и бьет по шару, поставив стройные красивые пальцы на сукно стола, и эта обшарпанная биллиардная казалась мне частью какого-то аристократического клуба.
Мы впервые были с ней вдвоем одни, и это был замечательный опыт для меня. Находясь с ней вместе, я почувствовал, будто моя жизнь поднялась на ступеньку верх. Когда закончилась третья партия — и третью партию она, конечно же, тоже выиграла — рана на моей руке слегка разболелась, и мы решили остановиться.
— Извини. Не надо было заставлять тебя играть... — сказала Хацуми с неподдельным беспокойством.
— Да ничего страшного. Рана-то пустяковая. Да и здорово было, — сказал я.
Когда мы уходили, хозяйка биллиардной, сухощавая женщина средних лет, сказала:
— Да у вас талант, девушка.
— Спасибо, — сказала Хацуми, улыбаясь. Затем она расплатилась.
— Больно? — спросила у меня Хацуми, когда мы вышли.
— Да не особенно, — сказал я.
— А если рана открылась?
— Да все нормально будет.
— Да нет, пошли-ка ко мне. Я посмотрю твою рану. Все рано повязку сменить надо, — сказала Хацуми. — У меня дома и бинты есть, и лекарства. Да и отсюда недалеко.
Я сказал, что не стоит, так как все не настолько серьезно, чтобы так переживать, но она упорно твердила, что надо посмотреть, не открылась ли рана.
— Или тебе неприятно со мной находиться? Может, тебе не терпится домой вернуться? — шутливо спросила Хацуми.
— Вот уж нет, — сказал я.
— Тогда не упрямься и пошли ко мне, тут пешком два шага.
До дома Хацуми на Эбису от Сибуя было пятнадцать минут пешего ходу. Квартира ее была не сказать чтобы шикарная, но довольно приличная, и там были и маленькое лобби, и лифт. Хацуми усадила меня за стол на кухне и сходила переодеться в комнату сбоку. Теперь на ней были толстовка с надписью «Prinston University» и джинсы, а симпатично поблескивавших до этого сережек видно не было.
Она принесла откуда-то аптечку, разбинтовала на столе мою руку, убедилась, что рана не разошлась, продезинфицировала рану и снова наложила чистые бинты. Делала она все довольно искусно.
Где ты стольким вещам научилась? — спросил я.
— Я когда-то в добровольной организации этим занималась. Там всему научилась, медпомощь и все такое, — сказала Хацуми.
Закончив перевязку, она принесла из холодильника две банки пива. Она выпила полбанки, я полторы. Затем Хацуми показала мне фотографию младшекурсниц из одного с ней клуба. Там действительно было несколько симпатичных девушек.
— Если захочешь подругу завести, скажи. Познакомлю мигом.
— Так и сделаю.
— Ты меня за сводню, наверное, считаешь, скажи честно?
— Есть немного, — честно ответил я и засмеялся. Хацуми тоже засмеялась. Смеяться ей очень шло.
— Что ты обо всем думаешь? Про нас с Нагасавой.
— В каком смысле, что я думаю?
— Как мне быть дальше?
— А что толку от моих слов? — сказал я, потягивая пиво, охлажденное ровно настолько, чтобы приятно было пить.
— Ничего страшного. Скажи, что ты думаешь.
— Я бы на твоем месте с ним расстался. А потом нашел бы кого-нибудь, мыслящего более душевно, и зажил бы с ним счастливо. Как бы ни стараться видеть в нем только хорошие стороны, встречаясь с ним, счастья достигнуть невозможно. Он живет не для того, чтобы стать счастливым или сделать счастливым кого-то. Когда с ним находишься вместе, с ума начинаешь сходить. На мой взгляд то, что ты с ним встречаешься уже три года, это само по себе чудо. Мне он, конечно, тоже по-своему нравится. Он интересный человек, и я считаю, что есть в нем и прекрасные стороны. У него есть способности и сила, за которыми таким, как я, и не угнаться никогда. И все-таки то, как он мыслит и как он живет, это ненормально. Когда я с ним говорю, у меня иногда такое чувство становится, будто я все время на одном месте кручусь и барахтаюсь. Хоть он и живет точно так же, как я, но он все равно поднимается все вверх и вверх, а я так и барахтаюсь на месте. И от этого ужасная пустота ощущается. Короче, сама система совсем другая. Ты понимаешь?
— Я понимаю, — сказала Хацуми и достала из холодильника еще пива.
— К тому же, когда он поступит в МИД, и обучение внутри страны у него закончится, что если ему тогда надолго за границу придется уехать? Что ты тогда будешь делать? До конца будешь ждать? Он ведь, по-моему, ни на ком жениться не хочет.
— Я тоже знаю.
— Больше мне тогда сказать нечего.
— Угу, — кивнула Хацуми.
Я медленно наполнил стакан пивом и стал пить.
— Я с тобой когда в биллиард играл, вдруг подумал, — сказал я. — У меня ни братьев, ни сестер ведь не было, я единственным ребенком рос, но никогда мне ни одиноко не было, ни брата или сестру никогда иметь не хотелось. Казалось, что и одному неплохо. Но когда мы только что в биллиард играли, вдруг подумал, вот хорошо бы у меня такая сестра была, как ты. Чтобы и умная была, и красивая, чтобы ей платье цвета «midnight blue» хорошо шло и сережки золотые, и чтобы в биллиард играть умела.
Радостно улыбаясь, Хацуми посмотрела мне в лицо.
— По крайней мере из того, что я за этот год от других слышала, от твоих слов мне радостней всего. Честно.
— Поэтому мне тоже хочется, чтобы ты была счастлива, — сказал я, чувствуя, что краснею. — Но вот ведь странно. С кем угодно, кажется, ты могла бы быть счастлива, но почему ты так привязана к такому, как Нагасава?
— Это, наверное, та ситуация, когда никакого выхода нет. Сама с этим ничего поделать не могу. Как сказал бы Нагасава: «Сама виновата, я тут ни при чем».
— Да уж, он бы так и сказал, — согласился я.
— Понимаешь, Ватанабэ... Я не такая уж умная. Я наивная и упрямая женщина. Ни системы, ни кто виноват, меня не касается. Мне достаточно выйти замуж, каждую ночь спать в объятиях хорошего человека и родить от него ребенка. Вот и все. Вот и все, чего я хочу.
— А то, чего он добивается, это совсем другое.
— Но люди ведь меняются, разве нет? — сказала Хацуми.
— В смысле, когда в общество выходят, с жизненными трудностями сталкиваются, страдают, взрослеют?
— Ну да. Кто знает, может быть, вдали от меня его чувства ко мне изменятся?
— Так можно об обычных людях рассуждать, — сказал я. — С обычным человеком, может быть, так бы оно и было. Но он ведь другой. У него такие сильные убеждения, каких мы себе представить не можем, и он их изо дня в день все усиливает. Если где-то ему достается, он от этого старается стать еще сильнее. Чем кому-то спину показать, он скорее слизняка готов проглотить. Чего ты вообще можешь ожидать от такого человека?
— И все-таки, Ватанабэ, сейчас мне ничего не остается, кроме как ждать, — сказала Хацуми, подперев подбородок двуми руками, поставив локти на стол.
— Ты настолько любишь Нагасаву?
— Люблю, — не колеблясь ответила она.
— Э-хе, — вздохнул я. Затем допил пиво. — Когда настолько кого-то любишь, что можешь так уверенно об этом сказать, это здорово.
— Я просто наивная и упрямая женщина, — опять сказала Хацуми. — Еще пиво будешь?
— Да нет, хватит уже. Пора идти потихоньку. Спасибо тебе и за повязку, и за пиво.
Я встал и обулся в прихожей. В это время зазвонил телефон. Хацуми посмотрела на меня, потом на телефон, потом опять на меня. Сказав: «Пока», я открыл дверь и вышел. Когда дверь тихонько закрывалась, мне в глаза бросился облик Хацуми, поднимающей трубку телефона. Это был последний раз, когда я ее видел.
Когда я вернулся в общежитие, было пол-двенадцатого. Я направился прямиком в комнату Нагасавы и постучал. Я постучал раз десять, пока до меня наконец дошло, что сегодня суббота.
На ночь с субботы на воскресенье Нагасава каждую неделю получал разрешение не ночевать в общежитии под предлогом того, что идет спать к родственникам.
Я вернулся в комнату, развязал галстук, снял куртку и брюки и повесил их на вешалку, переоделся в пижаму и почистил зубы. Затем я вспомнил, что завтра же снова воскресенье. Чувство было такое, словно воскресенье наступало с интервалом дня в три. А еще через два воскресенья мне исполнится двадцать лет. Я завалился в постель и погрузился в мрачные мысли, глядя на календарь на стене.
Утром в воскресенье я, как обычно, сел за стол и стал писать письмо Наоко. Я пил кофе из большой кружки, слушал старую пластинку Майлза Дэйвиса и писал длинное письмо.