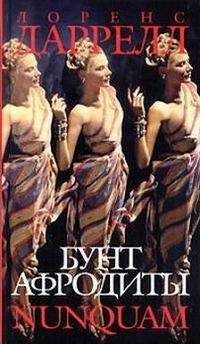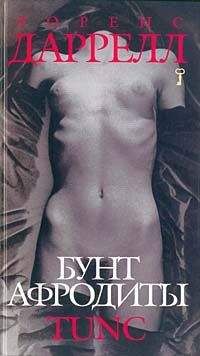Кстати, я достал его из кармана, чтобы прочитать ещё раз. Идея разрушения до основания контрактной системы фирмы начинала казаться мне соблазнительной; естественно, она была нелепой, а что не нелепо? Разве не нелепо возвращаться в Лондон и оживлять творение Пигмалиона?
— Я встретил Сиппла, — сказал Вайбарт. — Он совсем слепой, весь седой и призрачный, как мышь. Возглавляет отдел бальзамировщиков, который открыл Гойтц. Всё делает, сначала потрогав, как мышь с сыром. Он работал с маленьким трупом, трупом мальчика, был молчалив и счастлив. Меня это ужаснуло. И я быстренько откланялся.
Он опасливо оглянулся и увидел, что Гойтц спит и ему не до него. Ведь стоило Гойтцу услышать насмешку насчёт своего занятия, и он тут же обижался.
— Он стал совсем как розовые прозрачные безглазые ящерицы, которые живут в пещерах, где ни зги не видно. Где стоит тьма-тьмущая. Солнечный свет как будто проходит сквозь него, я имею в виду Сиппла.
А я совсем забыл, что шут ещё живой, ещё на земле живущих, на земле умирающих. Стюардесса принесла нам выпить. Положив голову мне на плечо, Бенедикта задремала. Скоро мы будем над высокими горами Албании, а там недалеко до Англии, дома и Иоланты.
Мне кажется, если бы кто-нибудь увидел нас в тот вечер, когда мы везли трофей любви по ворсистым зелёным газонам, по извилистым гравиевым дорожкам, потом через лес, пока не устроили нашу Иоланту на маленькой вилле, — если бы кто-нибудь увидел нас, то не смог бы удержаться от улыбки, такими озабоченными мы выглядели тогда. А она — она, укрытая парашютным шёлком, дышала тихо, ровно; когда она лежала на длинной железной каталке, видно было, как поднимается и опускается её грудь. Наша Иоланта потихоньку отходила от наркоза, скажем так. Были перерезаны последние нити, привязывавшие её к механизмам, которые поддерживали в ней жизнь все эти долгие месяцы; ту самую жизнь, которой в своё время она будет владеть сама, поворачивая её, куда захочет — к добру или злу.
— Сегодня она проснётся, сегодня она проснётся, — нараспев, с энтузиазмом школьника произносил Маршан, пряча за этим, полагаю, страх, приводивший его в состояние, близкое к истерике.
Он больше всех нас вложил труда в модель. Так же было, когда её грудь в первый раз начала подниматься и опускаться, а её губы — шевелиться, беззвучно складывая слова, и когда в ответ на что-то мы услыхали, как переборы колокольчиков, её смех, её звонкий девичий смех. И Маршан всё ещё испытывал восторг и едва удерживался, чтобы не похихикать, стоило ей продемонстрировать даже едва заметный отклик на жизнь, в которую она входила. Сквозь редкие серебристые волоски у него на голове проглядывала розовая кожа; под наплывом чувств часто затуманивались его очки в серебряной оправе, придававшие ему отдалённое сходство с Белым Кроликом. Ему приходилось протирать их фартуком. Должен сказать, его смех пугал меня.
Признаюсь, я тоже испытывал страх и, возможно, даже ужас, когда она — то есть модель — начала поступать в соответствии с нашими указаниями, намёками. Она двигалась, как планета, если смотреть на неё в камеру, в телескоп…
Медленно, со знанием дела она облизывала губки красным язычком, мелькавшим между ними, как мокасиновая змейка. Потом она вздохнула разок, другой, но пока ещё радоваться было нечему. Мы дали себе четверть часа, чтобы одеть её и доставить на маленькую виллу, где она могла бы проснуться в окружении вещей, приемлемых для сложных кодов её памяти. В конце концов, нам хотелось, чтобы она почувствовала себя как дома и была счастлива, как все. Вот поэтому мы с Маршаном, одетым в безупречно белый халат интерна, и миссис Хенникер под видом медицинской сестры везли её из города. Что до меня, то я был, так сказать, в штатском. Маршану предстояло сыграть роль врача, который, проведя блестящую операцию, спас ей жизнь. Что до миссис Хенникер, то она была землисто-белого цвета, с прилипшими ко лбу волосами, но вела себя очень достойно. Я провёл с ней долгую беседу насчёт чрезмерной эмоциональности. Правда, мне казалось это лишним, но всё же было бы обидно рисковать экспериментом, столь сложным и непредсказуемым, из-за выражения лица сиделки.
— Ничего лишнего не следует говорить в присутствии модели, чтобы она не подумала, будто она то, что она есть на самом деле, что она ненастоящая. Она ни в коем случае не должна усомниться в себе — потому что это может привести к катастрофе кода памяти; все её сомнения должны возникать постепенно в её собственных ячейках памяти, и тогда последует естественная реакция.
Конечно, такое легче сказать, но дело в том, что она выглядела чертовски реально и трудно было не думать о ней как о «человеке»… уже теперь! А она ещё не ходила и не говорила — серьёзное испытание иллюзорной жизненности! Да, она даже умела читать, и возле её кровати лежала стопка знакомых киношных газет и еженедельников, которые она учует непременно, как собака, и просмотрит с любопытством модные силуэты подобно тому, как она стала неторопливо ковырять в зубах ногтем. Ну да, она типична, именно такая, какой её только и мог сотворить современник.
Джулиан был на нашем совещании, если это можно назвать так, сидел очень тихо, сложив руки на коленях, внимательно слушал, казался меньше, чем был на самом деле, и напоминал школьника. Он тоже не избежал всеобщей напряжённости, свойственной жестокому ожиданию — но его симптомы больше подходили юному жениху, чем взрослому мужчине, имеющему дело с куклой. И всё же: несколько раз на день он переодевался, изучал себя самым серьёзным образом в зеркале, ворчал насчёт свежести бутоньерки в петлице. Мне было ясно, что он во что бы то ни стало собирается ещё раз и с большой тщательностью приодеться перед первой встречей с так называемой Иолантой. Хотя, наверно, для него это было важно. (Она протянет ему длинные туберкулёзные пальчики и будет безмолвно улыбаться.)
Для решительного момента мы выбрали вечер: это давало нам возможность на основании её реакции на темноту, на сон и так далее убедиться, правильно ли мы всё рассчитали. Настоящая Иоланта обычно просыпалась в шесть часов утра и отправлялась в постель ровно в одиннадцать вечера. Хенникер обещала исполнять прежнюю роль сиделки-секретарши и подруги со всей преданностью, на какую только способна, и я подумал, что ей потребуется немного времени для преодоления своих страхов, всё будет нормально; рано или поздно она свыкнется с новой Иолантой. Главный вопрос — как та очнётся в первый раз? Если модель настолько «настоящая», насколько мы ожидали, код её памяти немедленно соединит историю Хенникер с «собственным» прошлым — со всем до последней мелочи. Да, с точки зрения памяти она вернётся к жизни после тяжёлой болезни — пустота, образовавшаяся из-за смерти реальной Иоланты, будет заполнена в памяти её копии подробностями болезни, операции, отсутствия в большом мире. Впредь её жизнь (хотя мы не вырабатывали хитроумной схемы и размаха её деятельности) будет долгим путём к выздоровлению. Во всяком случае, так мы думали. Она не была «закодирована» или «запрограммирована» на будущее. Она была, скажем так, свободна.
Маленькую виллу в лесу ненавязчиво — для случайного прохожего — огораживал высокий забор из проволоки с воротами. Вилла была очень симпатичной и располагалась в глубоком лесу. В саду росли дикие полевые и садовые, приручённые человеком цветы; подальше бежал ручей, а вблизи рос яблоневый сад. Здесь было красивее и удобнее, чем в лесном доме, в котором жил я сам с Бенедиктой. Внутри элегантного строения Хенникер собрала все вещи (их было на удивление мало для такой богатой женщины) старшей Иоланты; расположила их в привычных местах, чтобы укрепить память Иоланты и заодно, возможно, дать ей (полжизни проведшей на чемоданах) понять, что здесь всего лишь декорации для нового фильма или что-то в этом роде. Прелестный, мирный домик. Камин сверкал огнём в столовой, где было много новых романов и bibelots[95]; на стене висела картина Ренуара. На небольшом открытом рояле стояли ноты к фильмам и том этюдов Шопена. Eh biеп, свежевыглаженные простыни. На прикроватной тумбочке лежали два романа, которые она читала, когда она, настоящая, неожиданно умерла. (В одном были её пометки.) Всё было продумано, чтобы изобразить нормальную жизнь и создать привычную атмосферу для тихо дышавшей во сне Другой Иоланты, укрытой парашютным шёлком. Я коснулся её пальчиков. Они легко разделялись. И были тёплыми.
Маршан всё тщательно просчитал. Мы аккуратно развернули парашютный шёлк и надели на нашу Иоланту голубую шёлковую рубашку, пока Хенникер длинными движениями расчёсывала ей волосы (а она блаженно вздыхала). Потом мы отнесли её в кровать. Иоланта с удовольствием вдохнула своим новеньким носиком аромат свежих простыней. Лёгкий аромат источали также пахучие палочки[96], горевшие в маленькой китайской вазе. Время пошло; нам больше ничего не оставалось, как ждать. Маршан склонился над своими часами, как сумасшедшая гадалка над магическим кристаллом, молча шевелил губами, ведя счёт времени, и широко улыбался. «Минута», — прошептал он. И тут, с удовольствием выдохнув долгое «Аххх», леди проснулась; два глаза, с которыми никакой камень не сравнился бы в голубизне, сначала обследовали чистый белый потолок, потом их взгляд медленно переместился на наши лица; засветился, узнав нас, и одновременно на лице появилась озорная улыбка, но такая нежная, словно была обращена к одному-единственному человеку, даже когда она изображала её на экране. Хрипловатый, но мелодичный голос произнёс: