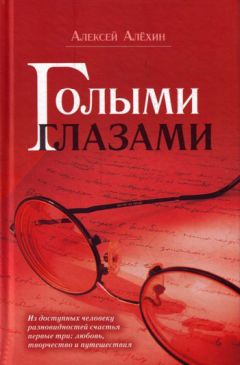В столовке – котлеты из тухлого мяса, холодильник поломался. Заведующая подсела, жалуется: вы б написали хоть, чтобы слали зелень с базы, мы бы салатики делали… Пойти к директору совхоза, попросить на день троих мужиков и сколотить теплицу – не приходит в голову.
Мне показали записки первопереселенцев – 1910 год. Степь, пишут, в траве выше человеческого роста. Сейчас треть урожая уносит пыльными бурями.
Вырождение идет полным ходом. Кто поумней или поживей – уезжает (здесь не говорят – «в Омск», а просто – «в Город»). Едут после школы, после армии. Остаются, на кого уж вовсе спроса нет…
Обратный путь. Бритый казах в автобусе. Тоже грязноват и одет в теплую не по погоде кацавейку. Но выглядит все же своим в этой степи. По обе стороны от казаха – мальчишки, тоже бритоголовые. У всех троих уши торчат, как ручки у сахарницы. Казах невозмутим. На какой-то остановке со всем своим выводком пристроился в очередь за огурцами. Пора трогаться, шофер давит и давит гудок, тот даже не обернется. Завершив покупку, все трое лезут в автобус и начинают хрустеть, поедая добычу.
Окраина Омска. Необъяснимое поведение толпы на остановке. Люди терпеливо ждут, но если автобус появляется с противоположной стороны, переходят улицу и едут в обратном направлении. Вероятно, там круг, но впечатление такое, что им все равно, куда ехать.
Омская танцверандаЯркий свет, музыка и запах духов «Может быть» собирают сюда мошкару со всего Омска.
За много улиц отсюда чувствуешь ее притягательную силу. На троллейбусных остановках у горпарка, на набережных Омки и Иртыша, на дальних улочках легко распознать целеустремленные стайки в цветных платьях.
Танцверанда соседствует с городским пляжем и окружена забором из волнистого железа до уровня глаз. Лица не попавших внутрь окружают ее плотным полукольцом, тут становятся на цыпочки и вытягивают шеи, стремясь углядеть эстраду.
Внутри танцуют тесно. Не всем достает места на заасфальтированном круге. Половина стоит вдоль той же ограды, но здесь лица повернуты наружу, и тоже становятся на цыпочки, высматривая знакомых во внешней толпе. Две толпы, глядящие лицо в лицо.
Музыка. Женский голос в мегафон объявляет танцы. Конкурс на лучшую пару. Призы. Звуки туша.
По узкому коридорчику, оставленному вдоль ограды, прибывают свежие силы. Музыка оглушительна и хорошо слышна снаружи, но тут не танцуют.
Ах, одежды, смешение всех стилей и мод! От бального панбархата и траурно-свадебных пиджачных пар до дрянных местных джинсиков, украшенных на заду этикетками с польского белья, и веселого ситчика – останков недавнего «ситцевого бала», чьи афиши еще линяют на тумбах по всему городу.
Тот же, что и в столицах мира, поиск индивидуальности во внешности и в одежде: ее добывают тут, как золото на Клондайке. Ради нее пускаются в отчаянные авантюры. Но в одиночку все ж страшновато, и потому много парно одетых приятелей и подружек. То двое в каких-то поварских колпаках, но с козырьками, долженствующих означать колониальные кепи; то две в одинаковых платьях с воротниками размером с велосипедное колесо…
Гвоздь сезона – брючные костюмы, сооружаемые с провинциальной находчивостью: шьются лишь брючки и дополняются туникой, роль которой играют платья мини от предыдущей моды.
Сочетания цветов: розовое с зеленым и с желтым; синее с розовым и коричневым, и далее в этом роде.
Хуже с обувью. Не менее тридцати девиц в одинаковых «римских» сандалиях с ремнями до колен – гордость здешнего горторга.
Парни тоже охочи до красоты. Кто не в похоронном костюме, тот в рубашке в цветочек, или в белом арабском белье, заменяющем модные нынче футболки. А если и в простой сорочке, то надетой как-нибудь по особенному, с поднятым воротником например.
Баки, бачки, усы всех фасонов.
Ходят сюда кто за развлечением, кто за счастьем.
Вот одна с явно подаренным себе самой букетиком маков. Стебли поникли, цветы висят, но она их не выпускает из вспотевшей руки, ища кого-то глазами.
Много некрасивых, бледных лиц. Подчеркнуто бледных из-за яркой помады.
Ищут даже не флирта – проводил бы до дому. Ну, попристает. Соседки б видели: «Нинка с танцев с парнем пришла».
Запах духов «Может быть».
(Но все ж и в этой толпе, в платье дурного вкуса, в пылающей помаде, раз и два – синие королевские глаза.)
Зато аккуратны и хороши солдатики, в пригнанной по росту полевой форме, в ремнях. Это курсанты. Они выделяются, как офицеры на прежних балах, и знают себе цену.
Вот курсантик купил билет и вводит счастливицу в танцверандовский рай. Правда, на ступеньке, отделяющей его от прочего мира, поддерживает не под локоток, как на тех балах, а под выпуклую попу.
В толпе, прижимаясь к чужим карманам, шныряет красноглазый, потасканного вида паренек.
Вокруг танцверанды растет и растет толпа.
Ни дуновения с Иртыша.
Освещенную электрическим светом разноцветную человеческую массу отделяет от воды полоса пляжа с потемневшим остывшим песком. Он весь покрыт тысячами холодных ямок от босых ног. Он пуст.
Толпа у ограды все прибывает.
Прохаживаются, стоят, сидят, подпирая столбики навеса. Разыскивают и ждут своих.
Здесь свои премьеры и свои бенефисы.
Гремит музыка.
Курильницами дымятся горящие урны.
И весь вечер над головами танцующих, над головами тех, кто стоит, сидит и прохаживается, смеется, курит, болтает, знакомится, резко отвечает, завидует, надеется, над темной и сырой к ночи полосой пляжа, над черной водой реки – на желтый закат, к невидимому за лесом аэропорту, медленно и низко идут, на миг заглушая музыку мощным ревом, тяжелые, отливающие металлом, вспыхивающие рубиновым светом бортовых огней, испещренные желтыми точками иллюминаторов транзитные самолеты, прекрасней которых нет на свете.
В Москве деревянные дома дряхлы и гнилы. Восхитителен рассыпающийся резной наличник – но остальных уж нет, окна в свеженьких рамах, краденых с соседней стройки. Чудесно легок выточенный из единого куска дерева загиб перил, но прикоснуться к ним боязно – балясины вываливаются, точно сгнившие зубы. А жильцы спят и видят, когда их снесут и переселят в блочные пятиэтажки.
Не так в Иркутске.
Здесь целые улицы бревенчатых домов – здоровых и сильных. Дерево потемнело от времени, но только сделалось тверже. Да и не дома это, а палаты. Щедрые сибиряки строили их с любовью и тоской по той, настоящей, России, что осталась за Каменным Поясом. Строили по памяти, перемешавшейся со сказкой, как на билибинских акварелях. Подзоры, наличники, крылечки в дубовой резьбе, витые столбики, переходы…
Дома-комоды и дома-сундуки.
Темнолицый дед в просторной белой рубахе смотрит с галереи. На фоне деревянной стены он кажется поясным портретом в дубовой раме.
На базаре пышущая здоровьем дивчина торгует молодой картошкой сорта «лорх» – такого же точно фиолетового цвета, что и широкий румянец на ее щеках.
Входя в кабинет местного начальника, приметил на стене обширную карту Иркутской области. Но после, в разговоре о дальнейшем маршруте нашем, обернувшись к ней – «Да вы на карте покажите!..», – обнаружил, что карты нет. А есть водяной потек в полстены – с реками, рельефными хребтами, зеленоватыми низменностями и даже озером Байкал…
Как выяснилось позже, спутник мой пережил такое же потрясение, хоть и сидел к этой стене лицом.
Иркутские студентки, случается, подрабатывают проституцией. Стипендия – 45 рублей, а из деревни денег не присылают. Хочется фруктов, редких здесь и дорогих, а того больше – тряпок, которые все ж иногда появляются в магазинах. «Больше всего дерутся из-за этих, – рассказчица рисует пальцем усы на верхней губе: Кавказ. – У них и деньги, и фрукты».
Вдоль дороги – черные зубчатые короны обгоревших пней.
На неширокие горные долинки, как белые дирижабли, садятся облака.
У обширной котловины, разделившей хребты, плавные женские формы. Она отглажена прошедшим когда-то ледником. По дну извивается узкий, но шумный Иркут. Вся она поросла короткой и жесткой, как негритянская шевелюра, травой.
Из проползавшего ледника выпали белые круглые валуны. Они лежат бильярдными шарами, рассеянными на ворсистом зеленоватом сукне: каменные яйца ледника. Величиной примерно с дыню, и из-под каждого цветет эдельвейс.
Серые, невзрачные цветы эдельвейса. Но рядом с ними и выше уже ничто не цветет.
По Мондам носится собачья свадьба. Рослый черный кобель держится возле единственной сучки, боком оттирая соперников и успевая покусывать их на бегу; «дама» кусает его самого. Больше всего достается крошечной серой собачонке, прибежавшей, похоже, просто посмотреть.
Там, где сходятся Саяны и Хамар-Дабан, тянущийся от Байкала тракт переваливает через седловину и уходит к монгольскому озеру Хубсугул.