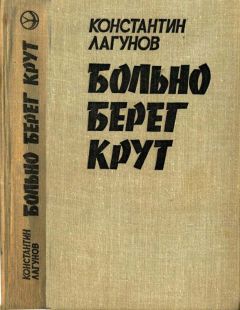Верно расшифровав начальнический взгляд, Бакутин вспомнил анекдот-притчу про воробья. «Попал в дерьмо, сиди и не чирикай…»
Горько ухмыльнулся и, не проронив ни звука, вышел из кабинета, тихонько притворив за собою дверь. В приемной столкнулся со знакомым снабженцем.
— А я в Турмаган собрался, — сказал тот.
— Когда?
— Через час спецрейсом.
— Прихватишь?
— Всегда рад…
2
Не глядя, Бакутин опустился на какой-то тюк, привалился спиной к холодной ребристой стенке самолета и прикинулся, что задремал. Снабженец оказался человеком тактичным, не лез с разговорами, только где-то на полпути пригласил перекусить.
Бакутин наскреб со стенок горсть белых ледяных кристалликов, опрокинул в рот полный стаканчик спирта, заел хрусткой студеной кашицей. Потянулся было за колбасой, да, не дотянувшись, опустил бессильно руку…
Вот теперь по-настоящему и накрепко подловил его Румарчук. Ах, как ловко и сноровисто подсек. Сиди и не чирикай, как тот воробей в коровьей лепешке. Да и к чему? Только нервы трепать себе и людям. Три года скоро, как запел он о попутном газе. А что? Кроме благосклонного внимания Бокова — ничего. А факела полыхают. Ни ГРЭС на попутном газе, ни газоперерабатывающие заводы дальше той докладной в обком — никуда. Теперь Боков переадресовал ее в главк. А и что мог Боков без поддержки специалистов?.. «С чего же мне-то не спится, не сидится, не можется? Жужжу, как назойливая муха, раздражаю, мешаю. Всем осточертел. Вот и… Все эти факела, бетонки, трубы и прочую муть — к такой матери! Подхватить Нурию и — вон из Турмагана! Гори синим пламенем в прах и дым. Руки целы, в башке не солома. Не загину… А Тимур?.. Ася?.. Нурия или Ася? Нурия. А сын? Сын!.. Уехать к ним? Ася возликует, решит, ее чары сработали. Это бы можно стерпеть, но Нурия… Любит. Безотчетно и безоглядно. На такое пошла… И ничего взамен не потребовала. Приедет Сабитов, просигналят Асе — что тогда? Лгать и подличать? Изворачиваться и юлить? Спасая шкуру, предать Нурию — единственную, в ком не сомневаюсь? Лучше пулю в лоб… Бежать! Послать всех и вон отсюда… Пусть обустраивают. Добывают. Гасят…
С меня довольно!
Достаточно!..
Хватит…»
— Хватит, — невнятно бормотнул он. — Все…
Вот теперь он действительно сдался.
Капитулировал.
Безоговорочно и окончательно.
И, странное дело, решившись на это, выкинув белый флаг, почувствовал вдруг давно не испытанное облегчение.
Гора с плеч. Тоска из сердца.
Вздохнул глубоко, распрямился.
Налил стаканчик спирту, одним глотком выпил.
— Точка, — опять себе под нос пробурчал довольно и обрадованно. — Раз и навсегда. Остальное…
Остальное как-то вдруг отодвинулось, притупилось и померкло… потому что было прикладным к главному, чем доселе жил, что двигало его и подымало. Теперь ось — пополам, и весь механизм — в груду никчемных, ненужных железок…
3
— Гурий, — позвала она нежно, премило и трогательно смягчая «у», отчего получалось «Гюрий». — Что с тобой?
— Ничего. Устал…
— Неправда. Я стояла в коридоре, слышала твои шаги. Что-то случилось. Нехорошее…
— Наплюй на предчувствия и прогнозы. Не верь ничему. Что бы ни случилось, ты рядом. Остальное — чешуя…
Притянул ее за руку. Обнял. Нурия доверчиво прильнула к нему, обвила шею руками, жарко дохнула в ухо:
— Милый.
— И все. И ничего больше не надо, — сдавленно и глухо проговорил он, целуя и гладя ее волосы.
— Молчи. Я слушаю, что говорит твое сердце.
Приникла ухом к его груди, замерла. Он тоже затих, придержал дыхание.
— Ну? — спросил хрипло. — Что услышала?
— Беда стучится к нам. Огромная и черная.
— Полно… Полно… — и стал легонько отрывать ее голову от своей груди.
— Погоди. Не мешай… — Плотней прижалась, забормотала сбивчиво и бредово: — Слышишь? Счастье уходит. Любовь уходит. Жизнь уходит…
— Никуда не уходят. Тут они, пока мы вместе. Ну, улыбнись…
Обняв за плечи, повел к дивану, усадил, сам опустился рядом на колени, обхватил ее ноги, спрятал лицо в подоле и затих. Она осторожно и нежно перебирала и укладывала длинные седые пряди, поглаживала за ушами, и такая сладкая, щемящая радость и острая желанная боль прострелили Бакутина, что он не сдержал стона.
Перехватил ее руку — пухлую, горячую, податливую, — прижал к губам и уловил тревожащий степной дух сухих трав, и солнца, и разомлевшей от зноя земли.
«Как же мы теперь? Что же? Не подумал… Не заглянул… Не поостерегся и ее… ее не поберег. Что-то надо сказать ей… Нет. Нет. Только не сейчас. Не теперь. После. После Нового года».
А что после?..
Как?..
Куда?..
Не знал.
Не предполагал.
Не гадал даже.
И думать об этом не было ни желания, ни сил. Да и зачем? Ему хорошо. Уютно и покойно. Под щекой нежная, пахнущая сухой степью рука. И на голове — такая же рука…
Обхватив Нурию за талию, запрокинул лицо, и тут же упругие жаркие губы прикипели к его губам.
Дрогнул мир и раскололся, и они провалились в эту бездонную, яркую расселину…
1
Новый год меняет лишь цифры в календаре, оставляя все прочее неизменным. Прежние болезни, заботы и тревоги по-прежнему осаждают человека. Те же радости и удовольствия у него, и так же их мало.
Оплетенный цепями повторяющихся событий, суетных забот и нескончаемых дел, человек давным-давно смирился с неумолимой, жестокой необходимостью делать не то, что хочет, а то, что надо. Негнучее, непробиваемое это «надо» с младенчества давит на человека, и всю жизнь в нем кипит изнурительная борьба между «хочу» и «надо». Воистину счастлив и велик тот, кто эти встречные, противоборствующие силы свел в одну упряжку, двинул в одном направлении. Спаренные, они всесильны и вездесущи. Но таких исполинов, своими руками управляющих своей судьбой, — считанные единицы. Знают, что затея сия — безнадежна, а все равно делают вид, будто верят в ее сбыточность, и тешатся сами, и других потешают надеждами на новое счастье в новом году, новые радости, новые перемены непременно к лучшему.
Ах, как нужен человеку наркотик самообмана. Обалдев от оглушительного машинного ритма времени, вымотав силы, иссушив душу, человек, подмяв разум, ослабив тормоза и сняв ограничители, кубарем летит в голубую бездну фантазии, где ждет его все то, чего не хватает в реальной действительности: любовь, нежность, доброта…
Еще на дальних подступах к Новому году началось всеобщее возбуждение. Даже самые уравновешенные утратили покой, заперемещались со все возрастающим ускорением, которое становилось сильней и сильней по мере приближения к 31 декабря.
В продовольственных магазинах с раннего утра до отбоя ни продохнуть, ни повернуться. Вокруг почты — людской водоворот. Телефонные провода разбухли от оглушительной предпраздничной трескотни.
Нужные к праздничному столу продукты надо было заполучить после долгой толкотни в очередях.
В Туровск, Омск, Новосибирск, Свердловск и даже в Москву летели просьбы и требования, мчались толкачи, чтобы выбить к праздничному столу нефтяников лишнюю тонну мяса, пару центнеров лимонов или яблок, десяток ящиков доброго вина. В эти предновогодние дни все прилетающие в Турмаган походили на подмосковных дачников: под мышкой, на загорбке и в руках они тащили рюкзаки, чемоданы, коробки, авоськи, портфели — с пивом, колбасой, огурцами и апельсинами.
Чем меньше оставалось дней до Нового года, тем свирепей и яростней общественные организации, сослуживцы, друзья и товарищи атаковали «бытовиков», призванных обслуживать тех, кто обустраивал и обживал нефтяное месторождение — Турмаган. И, как всегда в подобных случаях, самый первый и самый жестокий натиск обиженных, разгневанных сограждан приходилось выдерживать заместителю начальника НПУ по быту Владлену Максимовичу Рогову.
«Скала» — почтительно и восхищенно говорили о нем сослуживцы. И верно. Как о скалу разбивались о Рогова и гнев, и негодование, и мольба. Он не рычал, не огрызался, не поучал, молча выслушивал и как золотой слиток ронял: «Разберемся». Редко кто после этого еще настаивал и просил: уж больно весом и впечатляющ был Рогов.
Можно смело утверждать, что по внешнему облику никто не угадал бы в Рогове хозяйственника. Невысокий, ладно скроенный, широкоплечий и прямой, с твердой чеканной походкой, четкими экономными жестами, низким, слегка разреженным голосом, Рогов выгодно отличался от сложившегося в нашем воображении типа хозяйственника — увертливого, громогласного размашистого мужичка-пройдохи, который может и стопочкой угостить, и сказануть чего-нибудь солоноватое, лишь бы достать, протолкнуть, уговорить. Никто не видел, чтобы Рогов канючил, угощал, заискивал. Он всегда говорил убежденно, весомо и, главное, грамотно. Лицо у него широкое, крутолобое, с жесткими волевыми чертами. Прямой нос, холодные серые глаза, над крупным ртом подковка рыжеватых усов. Выправка, четкость и скупость речи, командные интонации — все выдавало в Рогове военного, каковым он и был до недавнего прошлого. Двадцать пять лет отслужил он во флоте, носил погоны капитана второго ранга, потом… Что было потом — толком никто не знал да и узнать не старался: на Севере биографиями друг друга даже отдел кадров мало интересуется, не важно, кем был, главное — каков есть.