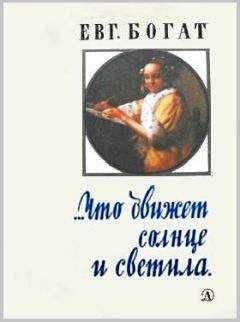Я перешлю тебе это письмо с Володей Волковым, ты уже знаешь его по моим рассказам. Он как раз едет к вам. Не влюбляйся в него.
Подло ревновать, когда идет война, когда всем хочется быть любимыми, так хочется, как никогда раньше не хотелось… Но я ревную тебя ко всем, кто сейчас встречает тебя. Ты такая красивая, такая нежная, в тебя просто невозможно не влюбиться. А когда кругом так много поклонников, когда разбитые сердца так и сыплются к твоим ногам, трудно, я это очень хорошо понимаю, хранить верность какому-то… Ты лучше меня знаешь, кому и какому. Наверняка он тебя не стоит. Но любит, Наташка, любит! И я не могу сказать «любит так, как никто никогда любить не будет». Белинский прав, талант любить не каждому дан, но немногие счастливцы (а может быть, несчастные? Нет, все-таки счастливцы), одаренные этой и тягостной и радостной способностью, будут любить именно тебя. Кого же еще, Наташка? Кого еще можно любить?
Как я хотел бы написать «целую»… Но не покажется ли тебе, что я в разлуке совсем обнаглел?
Нет, я не нагл, я бросаю к Вашим ногам воображаемую розу, не смея близко к Вам подойти.
Но когда вернусь, я буду вести себя развязно: вместе с сердцем, которое давно уже Ваше, я буду назойливо предлагать Вам мою немужественную руку.
Алеша.
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО МИСАКА МАНУШЯНА[73] ЖЕНЕ
Моя любимая Мелине, моя самая любимая сиротка!
Через несколько часов меня не будет в этом мире. Скоро после полудня — в 15 часов — мы будем расстреляны. Это вошло в мою жизнь как некий несчастный случай. Этому не верю и все же знаю, что никогда больше тебя не увижу.
Что могу написать тебе? Во мне все сейчас неопределенно и вместе с тем ясно. Я вступил в Армию свободы, как добровольный солдат, и умираю за два шага до победы и цели. Желаю счастья тем, кто будет жить после нас и упиваться сладостью завтрашнего мира и свободы.
Уверен, что французский народ и все борцы за свободу достойным образом почтят нашу память. В час смерти заявляю, что у меня нет никакой ненависти к немецкому народу, к кому бы то ни было. Каждый получит по достоинству награду или наказание. После войны, которая уже долго не продлится, немецкий народ и все другие народы должны жить мирно, по-братски. Желаю счастья всем.
Глубоко сожалею, что не смог принести тебе счастья. Я очень хотел иметь от тебя ребенка, этого и ты всегда хотела. Прошу тебя, после войны обязательно выходи замуж и роди ребенка. В честь меня и во исполнение моего последнего желания выйди замуж за того, кто сможет сделать тебя счастливой.
Все мое имущество завещаю тебе, твоей сестре и ее детям. После войны ты, как моя жена, сможешь получить воинскую пенсию, так как я умираю добровольным солдатом Армии свободы Франции. После войны с помощью друзей, которые пожелают почтить мою память, отдай издать мои стихи и вообще то из написанного мною, что заслуживает быть напечатанным. Если это будет возможным, отвези память обо мне и в Армению.
Через некоторое время — вместе с моими двадцатью тремя товарищами — я умру без страха и со спокойной душой человека, совесть которого чиста, потому что лично я не причинил вреда никому, а если и причинил, то без ненависти. Сегодня солнечный день. Глядя на солнце и на красоту природы, которую я так любил, я прощаюсь с жизнью и со всеми вами, моя горячо любимая жена и мои горячо любимые друзья. Я прощаю тем, кто лично мне повредил или хотел повредить, за исключением тех, кто предал нас ради спасения своей шкуры, тех, кто нас продал.
Крепко целую тебя, твою сестру и всех друзей, далеких и близких. Прижимаю всех вас к груди. Прощайте. Твой друг, твой товарищ, твой супруг.
М. Манушян.
НЕИЗВЕСТНАЯ — НЕИЗВЕСТНОМУ[74]
Хороший мой, любимый! Как рассказать тебе о моем счастье? Во все времена счастье было понятием отвлеченным. Это неверно. Ничего нет более зримого и вещественного, чем счастье. В течение трех дней я видела его, ощущала, дышала им, держала его в руках. Это сделал ты.
Луна в радужном кругу, скрип голубого снега, заиндевевшие волосы и ресницы — все это было счастьем. Две девочки догнали меня, таща за собой санки — совсем легонькие, детские салазки, которые звенели и подпрыгивали на ухабах. Мы катались с укатанной ледяной горки, и ветер свистел в ушах и до слез жег глаза. Мы падали, барахтались в снегу, карабкались по скользкой тропке. Наши варежки совсем промокли, а волосы растрепались. И все это было счастьем. Счастьем была большая темная комната, где пахло хвоей и только что погашенными свечками, а на полу лежали морозные лунные квадраты. Елки не было видно, и только тускло поблескивали кое-где стеклянные шарики. Счастьем была тихая белая мохнатая ночь, когда я одна ушла далеко, далеко от дома. Я шла по дороге, и все вокруг было полно мягкого белого рассеянного света, все казалось нежным и пушистым, и только фантастически искривленные стволы ветел чернели над заметенным сугробами прудом. Казалось, так можно идти без конца и никогда не устанешь, не озябнешь и не соскучишься. А еще я помню утро — розово-голубое, чуть морозное, когда лыжи так чудесно шуршат по зернистому плотному снегу, а воздух такой свежести и чистоты, что его пьешь, как воду. Милый, с чем бы ни встречалась я в эти дни — все было счастьем. В сущности, ничто не имело непосредственного отношения к тебе и все-таки все было тобой! Как благодарна я тебе за то, что ни одна темная мысль, ни одно горькое воспоминание, ни одно печальное предчувствие не омрачили этих чудесных дней. Может быть, сейчас, когда я пишу эти слова, я уже не владею ничем. Вокруг меня знакомые стены, белый телефон молчит, и сердце мое снова бьется тревожно и неровно. Я так хочу услыхать твой голос и так боюсь потерять чудесное свое счастье. Но вот сейчас, пока я ничего не знаю, пока я еще верю в самое лучшее, я хочу еще раз сказать тебе спасибо за счастье, за веру в себя, за молодость! Да, да, за молодость. С каким пристрастием, с какой пытливостью всматривалась я в эти дни в зеркало. И я видела: счастливые блестящие глаза, горячий румянец, гладкую, упругую, молодую кожу… Не свежий воздух, не январский морозец сделали это. Это сделало счастье. Это сделал ты. Словно не было ни горя, ни болезни, ни бессонных ночей. Засыпала ли я или открывала глаза — ты был со мной. Не помню, что ты говорил мне в новогоднюю ночь, не знаю, помнишь ли ты об этом, знаю только, что никогда не верила я в тебя так, как верила в эти, лучшие в моей жизни, дни. Родненький мой, а может, и вправду ты любишь меня? Может, и вправду я еще могу быть молодой и счастливой, может, сбудутся еще мои желания — мои три желанья, из которых самое главное — это быть дорогой и нужной тебе!
Я хотел, чтобы рядом с вечно живыми голосами, никогда не умолкавшими для нас, зазвучали полузабытые и безвестные совсем. И вот настала минута услышать совершенно забытый голос человека, которому я обязан замыслом этой работы, — голос Анастасии Николаевны Сологуб-Чеботаревской (1876–1921).
В русских журналах начала века можно найти ее статьи по искусству — о Родене, художниках Монмартра, Нестерове, Врубеле, Сомове… Она переводила Стендаля, Мопассана, Ромена Роллана, Метерлинка… И она составила несколько оригинальных по замыслу книг. Одна из них, ставшая ныне большой библиографической редкостью, — «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII–XIX веков». В книге этой автор — она скромно именует себя: «составитель» — как бы отсутствует вовсе: в ней — письма, только письма, одни лишь письма… Читая их, ощущаешь все отчетливей, все резче любовное письмо как весомейший исторический документ, отражающий в тончайших бесценных подробностях дух эпохи, ее нравы.
Анастасия Николаевна Сологуб-Чеботаревская умелым талантливым отбором раскрыла философскую суть и эмоциональную мощь любовного письма, его непреходящую ценность, когда в нем запечатлена живая, ищущая истины душа. В отборе этом живет и она сама — автор-составитель, собственная душа ее. В собранном ею томе большое, пожалуй, даже господствующее место занимают письма поэтов, особенно поэтов-романтиков, и письма женщин. Отдельные строки могут сегодня рассмешить чересчур рассудительного читателя, показаться инфантильными или банальными, удивить сентиментальностью. Удивляет даже сама техника обмена письмами. Поэт начала XIX века Иустин Кернер и его возлюбленная Рикеле не пересылали их по почте, а оставляли под камнем в старой, заброшенной капелле. Но то странное, возвышенно-невнятное, о чем он ей писал, пожалуй, и нельзя было передавать иначе: «…юноша относится к деве как звезда к цветку; неустанно плывет по небу звезда, сквозь облака и бури… Цветок тихо благоухает на родной почве…» Это бормотание сердца и надо было, наверное, укрыть под камнем, как укрывает под ним бормотание первый весенний ручей.