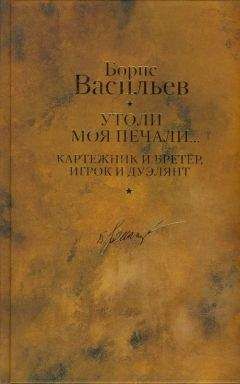— Какой жбан?
— Да вон, коричневый, на дне кафельном стоит.
— Нет там ничего.
По воде шла рябь, ручей посмеивался.
Выбравшись из воды, заговорщики продолжали карабкаться вверх.
— Холодно, однако, в мокрых штанах и штиблетах...
— А что это там звенит? Стеклянные колокольчики? Словно гирлянды лампочек праздничных на ветру — бряк, бряк. Либо пробирочки лаборантка несет.
— То у вас жбан, то пробирочки. Видать, коньячку в писдоме перехватили. Но... да ведь и впрямь звенит...
Схватившись за траву, они вылезли на лужок.
Стекляшки звенели, канюли, пробирки, трубки, торчащие из глотки и брюха огромного трехцветного пса, встречающего их.
Пес открыл пасть, вывалил язык; Остолбеневшие сотрудники услышали невнятно произносимую, с трудом выговариваемую четвероногим чревовещателем фразу: «Есть у тебя, сонюля, соплюк, заслуги, старайся и дальше».
— Мамочка моя... Да им счету нет... Псы стояли кольцом вокруг дачи.
То были дворняги разных видов и фасонов, разной величины, однако преобладали, если можно так выразиться, животные среднего роста; иные были лохматы, трехцветны, иные короткошерстны или гладкошерстны. У стоящего справа хромого кобеля висела на шее табличка, на которой преувеличенно укрупненным знакомым почерком академика Петрова было выведено: «Джон! Не осрамись, голубчик, дальше веди себя как раньше. За прошлое благодарим».
У его соседа в спину вколот был штырь, на коем красовалась надпись: «Надеемся, Мампус!».
Во втором ряду стояли собаки с перерезанным пищеводом, истекающие желудочным соком собаки-поставщики, эзофаготомы, фабричные; прозрачные банки, болтающиеся на их животах, медленно наполнялись, как наполняются березовым соком фляги, привешенные к надрезанным по весне березам. Фабричные, некогда поставлявшие в аптеки России и Германии желудочный сок средней цены, спасавшие людей.
На левом краю лужайки несколько дрожащих со вздыбленной шерстью псов, качаясь, щерили зубы; впереди стоящий с опущенным правым ухом сквозь зубы и процедил:
— Я — Вагус, слышали обо мне, двуногие живодеры, мародеры, люди?
С правого края выступали четвероногие с вывороченными, подшитыми лоскутами малых желудков, сзади подходили с клокочущим, стонущим ворчанием псы с прозрачными пластинами вместо лобной кости, позволяющими видеть электроды, вживленные в мозг.
В первый ряд пробились несколько привидений-экстирпантов, держащих в светящихся пастях удаленные свои органы: печень, сердце, легкое.
Некогда живые и мертвые, сторожевые псы взяли в круговую оборону дом, где спала ненастоящим снотворным сном любимая внучка некогда оперировавшего их человека, усыплявшего их перед операцией, гладившего с жалостью изуродованных, выживших, игравших непонятную собачьему существу роль в театре научных действий.
Из-за смородинового куста выступил величавый огромный обезглавленный кобель с поводырем; обвешанную трубочками, датчиками и стекляшками голову нес в зубах маленький, припадающий на переднюю лапу поводырь.
Визг, лай, вой, хрип, бульканье, скулеж, звон стеклянный, все приглушенное, отдаленное, словно звук уменьшен регулятором или приступом глухоты; под обрывом в полный голос на полную громкость журчащий ручей, то журчащий равномерно в подражание электричкам, то читающий на марсианском наречии стихи.
Из глубины сада явились две рослые обезьяны, неся шесты с зажженными китайскими расписными фонариками (возможно, то были точные копии фонариков, которыми играли у ручья на Вилле Рено маленькие сестры Орешникевы). Тут расступилось искалеченное воинство сторожевых псов, и по образовавшемуся в их косматом полку коридору стали приближаться, увеличиваясь, каменная и бронзовая собаки, два памятника; за ними, смыкая ряды, стала надвигаться на специалистов по академику Петрову вся псовая рать.
С криком отступили те к краю обрыва, покатились вниз, задевая ветви, даже и не пытаясь зацепиться. Наконец бесконечное ускоряющееся падение их завершилось; чудом не переломав костей, отделавшись ссадинами да шишками, оставив в болотце обувь свою, выбрались они на четвереньках на нижнее шоссе и вышли на пляж, где некоторое время, оглушенные, в полном безмолвии сидели на песке, глядя на затаившиеся во тьме форты Кронштадта.
ГЛАВА 47.
НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ
Разглядывая Нью-Йорк, Иван Петрович с гордостью вспоминал Ленинград. С какой любовью говорил он о своем родном городе на берегах Невы, о Васильевскомострове и Летнем саде! Иван Петрович вспоминал иродную Рязань, заливные луга над Окой, картинуЛевитана «Над вечным покоем»...
С. Т. Коненков
— Як умру, то поховайте на Украине милой, — пел во все горло Нечипоренко, поддавая бархату, певческих интонаций, — посреди степи широкой выройте могилу!
Теперь на голове его красовалась мягкая цвета слоновой кости домотканого сукна кавказская шляпа с белой опушкою по краям, мечта советского туриста, тихая радость завсегдатая кавказских и крымских курортов. Белая косоворотка с вышивкой крестиком, немыслимой широты портки, чьи штанины смыкались воедино где-то между коленями и причинным местом, холщовая сума через плечо и громадные римско-греческие босоножки с пряжками пионерских сандалий делали исторического консультанта похожим на немасштабно увеличившегося артековца. В руке поющий держал бутылку горилки, где на донышке еще плескалось «зилля».
— «Поховайте»... — задумчиво почесал в затылке возлежащий на плащ-палатке посередине лужка Савельев, — тот самый малороссийский глагол, при помощи коего Василий Андреевич Жуковский в известном анекдоте объяснял едущему с ним в коляске цесаревичу, воспитаннику своему, значение слова из трех букв, только что прочитанного цесаревичем на заборе. Анекдотический Жуковский утверждал, что прочитанное слово — повелительное наклонение от малороссийского глагола «ховати» по аналогии с таковым же наклонением от глагола «ковати» — «куй». И якобы ехавший в той же коляске царь пришел в восторг и, достав усыпанную бриллиантами табакерку, преподнес ее Василию Андреевичу с приказанием ховать (в повелительном, ясное дело, наклонении) презент в карман... Особо, доложу я вам, люблю я наш сработавшийся коллектив, наш сегодняшний карасе, за чтение мыслей и вспышки ассоциаций. «Як умру». Двадцать копеек, Нечипоренко! Я собирался вот как раз обсудить с вами, господа, зрительный ряд из... кладбищенских, так сказать, мотивов... Этакую, если хотите, связку... Ну, русское кладбище... старинное, что ли...
— Да где ж вы такое найдете?! — воскликнул Вельтман. — Давно разорили, что в металлолом, что на памятники, что на новые могилы, что на фундаменты, а иные гранитные детали — на поребрики нашей колыбели революции и прочих славных городов-героев.
— Найдите, где хотите! — моментально разозлился Савельев. — Снимайте крест Тру вора в Изборске! Музей городской скульптуры в Александро-Нев-ской лавре! Не перебивайте меня, черт побери! Стало быть, старое русское кладбище, деревенское смиренное кладбИще, братскую могилу — можно гитлеровскую хронику — или блокадную? — но советские документалисты таких ужастей не снимали... и непременно финское кладбище, да не худо бы кадры русского в Париже, как бишь его, то ли Сен-Женевьев-де-Буа, то ли Сен-Жене-вьев-о-Буа; чтобы наездом, почти крупным планом: БУНИН. Или еще кто. Набоков. Либо Газданов. Впрочем, хоть Газданов и лучше, Набоков известнее. Ну, и — «Над вечным покоем» Левитана.
— Здесь было финское кладбище, — вымолвил, добулькав свое, Нечипоренко. — Напротив Комаровского мемориального, через шоссе.
— Да там лес как лес. Вы что-то путаете.
— Ничего я не путаю. Некоторые помнят плиты с надписями на финском, мраморные кресты.
— Куда же все подевалось? Нечипоренко развел руками:
— Шукай, був.
— Кстати, — сказал Вельтман, — с самого Комаровского кладбища исчезли почти все старые могильные плиты.
— Именно, — подтвердил не особо пьяный Нечипоренко, — пропали, воля ваша. В частности, плита с могилы старой Ванды Шпергазе, да и сама могила.
Старая Ванда успела умереть задолго до начала зимней войны советской России с Финляндией. Что-то витало в воздухе; финское правительство давно уже предложило русским эмигрантам-дачникам принять финское подданство, переехать в Хельсинки (многие и переехали, Тутолмины, например); беженцам, ставшим финскими подданными, назначался приличный пансион, а сверх пенсии — компенсация за утерянное имущество. Ванда слушала мужа, пересказывавшего ей все это, кивала, молчала, раскладывала пасьянсы, тянула время.
Свекровь ее внучки, жена академика Петрова, положила венок на ее могилу, и маленькие правнучки приведены были к прабабушкиной могильной плите, которая после двух войн и нескольких лет мира исчезла бесследно, испарилась.