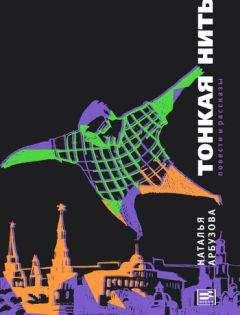Прадедушку Энгельса, не поленившегося ехать за сто верст киселя хлебать – повидать Васятку – ныне отпустили. Вернулся в Торопец – Настасья Андревна, следовавшая теперь за мужем, ровно нитка за иголкой, вроде бы ничего плохого не заметила. Вошел в дом, доставивший ему, хозяину, столько треволнений. Лег под образа, лишь недавно повешенные – год назад крестился во имя пустынника Нила, следом за всеми. Отщепенцем стать не мог, не так воспитан. Лавка постелена была шерстяным половичком – вторая жена вязала. Поворотился на спину, ненароком скрестил руки, уснул, да так хорошо, что и не проснулся. А куда ты пошла, его душенька, а и много ль тебе помог сильный твой святой? Похоронили – так на кресте и написали: Нил Степаныч Кунцов. Живи, ядерная физика, не помни имени своего тюремщика.
Наступленья полного сиротства Виктор Энгельсович не ощутил, поскольку примирился со смертью отца полтора года назад. Внук его мало трогал, и рана, нанесенная отъездом дочери, не заживала. Вероника Иванна попробовала было сунуться на Войковскую, но дальше порога не проникла – долго заикалась после неудавшегося визита. Что опоганенный Альбиною дачный участок ему возвращен, Виктор Кунцов знал. Даже дал Валентине устное разрешенье – по телефону – там строиться, но появляться в тех краях не осмеливался. Зрелище коттеджа, рушащегося подобно карточному домику, его преследовало. К тому времени завелись у Виктора Энгельсовича друзья-собутыльники, готовые принимать его на своих дачках всякое воскресенье, да еще привозить-отвозить на собственных машинах. Аккуратно ставя ноги промежду грядок, входил он в их тесный угодливый мирок. Садился за садовый столик, ел ихние кабачки и милостиво молчал. Круговое это гостеванье импонировало скупости Виктора Энгельсовича. В будни сидел на кафедре, в своем кабинете, с початой бутылкой в холодильнике плюс непочатая в дипломате. Своего собственного адреналина у Виктора Энгельсовича больше не вырабатывалось, но он хмуро терпел, пил лишь по окончании рабочего дня – дисциплина была у него в крови. Отпуск проводил в санатории, пристрастившись к режиму – не из роду, а в род. Зимние каникулы отпуском не считал. Вот и весь отчет о жизни Виктора Энгельсовича. На Войковской уж все домовые спали, когда он появлялся. Сейчас, мартовским талым днем, сидит он на большой перемене в аудитории с портретами математиков под потолком. В крыше окна, на одном валяется дохлая ворона, хорошо видная через стекло. Роковой, контрольный, тот самый день, но Виктору Энгельсовичу ни к чему. Проставляет оценки за блок в ведомость. Прячет ее в дипломат, отягощенный бутылкой. Не успевает защелкнуть – растворяется окно наверху. Возле распахнутой рамы, расставив неловкие ноги, стоит Ильдефонс. Склоняет в люк бесформенную голову, говорит негромко: пора, Виктор. Профессор Кунцов хватается за левый нагрудный карман, будто что ища, и оседает на стуле, уронив открытый дипломат. Подружка-бутылка подкатывается ему под ноги, и никто никуда его не зовет, и никто ни о чем не спрашивает.
Люблю тебя в зелень одетой
Когда загорелись торфяники – не сейчас, в эту аномально сухую, чертовски красивую осень – нынче дымит по мелочи, а в девяносто девятом горело как следует – из вредности не тушили, пусть горит ясным огнем. Что где выгорело, тут же под коттеджи, деньги на бочку. Горелая вырубка вблизи военного городка осталась нераспродана – должно быть, зарезервирована под его расширенье. С ближней опушки корпусов не видно, получился во такой новый пейзаж. Березняк выгорел чисто… то-то небось полыхали березовые поленья в полтора обхвата. Уцелел далеко выступающий клин сосен – очень похоже на альпийские фотографии в семейном альбоме доцента Антона Ильича Кригера. Несмотря на столь жесткую фамилию, человек этот робок и растяпист. Осьмушка немецкой крови в нем давно обрусела, задавленная семью восьмыми долями русской. Однако за глаза никто его иначе как немцем не зовет. В глаза же чаще всего называют Ильичом. Худой, нервный, сидит на пне. На двух соседних расположились друзья его: художница Нина Изволова, столь же худая, но несколько более спокойная, и муж ее Ярослав Захотей – изрядно красивый, однако толстяк, хватило бы на троих. По дальней опушке, освещенной солнцем, стройно проходит Аполлон Мусагет – ведомые музы пританцовывают под неслышные здесь звуки его лиры, цепляя пни легкими одеждами. Ближняя опушка в распоряжении Пана: он крадется в тени подсушенных пожаром сосен, водя темными губами по немецкой губной гармонике… свирель вчера потерял где-то поблизости… а, вот и она. Отшвырнув гармошку, заводит свое на свирели. За ним зачарованно следуют козы Зинаиды Андревны Соковой – та поотстала, продираясь сквозь ветвистый недавний валежник. Поет хорошо поставленным меццо-сопрано: сама садик я садила, сама буду поливать. Не как-нибудь, а ездит в хор при московской мэрии. Мотают выменами породистые козы с серьгами в ушах – длинными локонами шелковистой вьющейся шерсти. Крепко сдружились – Пан, Зизи и умная коза Бэла, предводительница стада из четырех голов. Остальные три образуют кордебалет: еще две белые, одна темно-серая. Антон Кригер провожает печальным взором обе процессии: дальнюю, что на солнце, и ближнюю, что в тени. Да, Нина… они заблуждаются относительно своего превосходства… Такие же неряшливые, неумные и вороватые… Так же чистят картошку, сидя на корточках, и ходят в халатах по улице… Только лишены детской непосредственности узбеков, их щедрости, ощущенья праздничности жизни… Подумаешь, цвет нации… Партийные колонизаторы. Это он пыхтит на русско-татарскую семью Маматовых, унесенную ветром из ташкентского пригорода и нагло гребущую все преимущества статуса беженцев. Нина, они живут ненавистью… Этот Владислав Маматов дежурит на Казанском вокзале, ездит весь день в электричках… Понимает узбекский, таджикский и еще какой-то кулябский… Отлавливает чурок, гребет деньги… Бедных, только что приехавших тащит за шкирку в опорный пункт комитета по борьбе с незаконным оборотом наркотиков… Их там нещадно бьют… Слухом земля полнится… Сам же и бьет… Приходит здорово накачавшись… Вижу около него черный круг… вот как этот уголь. – А возле меня какой? – Светлый, Нина и очень ровный. Как ваши фрески? подвигаются? – А то! конечно. «Сама садик я садила» уж не слышно, Ярослав заводит «За родником белый храм». Слуха нет, но голос приятный – бывает и так. Антон Ильич, дриада появлялась? вот Нина хочет ее ваять. – Приходила… только она уже изваяна… «Березка» Голубкиной… один к одному.
Я да Саня, да еще через улицу Максим – разбирались с немцевой березой долго. Я как увидел, что нам двоим не в подъем, позвал – помоги, дрова заберешь для бани. Он согласился. Придурок немец как уехал на месяц, весь месяц и пилили. Полтора обхвата. Но лучше один раз спилить, чем всю оставшуюся жизнь грести эти гребаные листья. Саня один раз сгреб и говорит: пилим, папа. Немцу делать нечего… по весне крышу подметал, свою и нашу. Больше не будет, не с чего. Рябину его, четыре ствола, завалили при нем. Первый ствол срезали – на него столбняк нашел, три дня говорить не мог. За три дня мы с рябиной управились. Последний ствол ловко отвели веревкой и обрушили за дом, на его колючку. Та была невысокая, вровень с немцевым балконом, а крона во весь немцев палисадник. Листья как у пальмы, опадали целиком, и оставалась слегка разветвленная культя. В воскресенье немтырь, чуть живой, поехал экзамен принимать – у них в вузе без выходных, когда сессия. Мы успели покончить с его жасмином и сиренью. Пни тут же выкорчевали, чтоб ничего нельзя было доказать. У него не сад, а лес – плодов не дает. Липа была на границе с нашей землей, нечего и спрашивать. Туды ее. Осталась береза, но это дело долгое. Запасли скобы, купили здоровенный удлинитель, одолжили у Максима циркулярную пилу и ждем. Наконец экзамены кончились, маразматик выкатился куда подальше. Саня так на березе и торчал, опиливая сучья – не за всякой нуждой спускался. По вечерам жег костер до неба. Я ему обещал: построю вроде бы гараж на две машины, на самом деле летний дом над гаражом, и запишу на его имя. Он и старается. Пусть строит, а писать на него смысла нет… Еще какая невестка попадется… потом будешь локти кусать. Пока парень тихий, восемнадцати нет. А там, глядишь, такой прорежется голос! Мы с Татьяной это уже проходили… Нике двадцать… Как записали на нее свою часть дома – живо тон изменила. Но так уж пришлось… Я должен был по генеральной доверенности от прежних хозяев оформить дарственную на кого-то, а прописка была только у меня и у Ники. Татьяна с Саней не выписываются из Бекабада… Теща уже одну квартиру толкнула и деньги зажала… Говорит, пришли бандиты, отняли… Знаем мы этих бандитов… никому не верь… себе самому, и то когда трезвый. Березовый пень не выкорчевали – корни уходят к соседу Троицкому, с ним лучше не связываться… не тот случай. На пне Саня пилит Максимовой пилой шлакоблоки. Респиратор – фигня… только время тратить… надел, снял. Мои отец-мать всю жизнь на вредности проработали, и ничего… до самой смерти на ногах. Даже на пенсию не ушли. У детей не побирались, что нужно – было. Ну, у меня вообще все было… машина, гараж… трехкомнатная квартира. Работать надо, а не сидеть… Чурки мне заплатят за все, что я потерял.