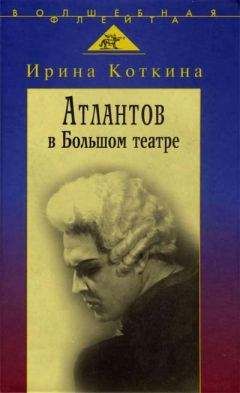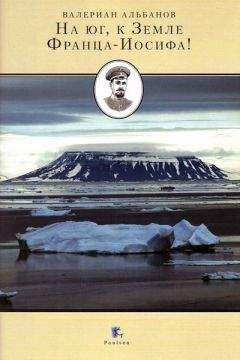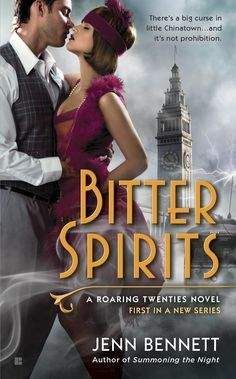— Ах, нет, оставьте меня! — визгливо сказал Пушкин. — Я наказан. Я пойду к себе в номер и встану там в угол. Меня будут приводить в пример подрастающему поколению. Как это у Островского? «Когда мы стояли в Бессарабии, у нас в полку был случай с одним евреем…»
— Мы думали, вы останетесь в студии на ночь, — сказал извиняющимся тоном Демичев. — Некрасов, например, остался.
— Это он вам так сказал? — спросил Пушкин, указывая пальцем на Олега. — Ха!
Он пошел к лифтам, хлюпая ботинками и постанывая.
— Это детство, Олег, — сказал Демичев. — Взрослые люди кругом. Ведешь себя, как чикагский мафиозо времен Сухого Закона в Америке. Ал Капоне.
Олег снова промолчал.
* * * Стихия продолжала бушевать.
Аделина смотрела с усмешкой, как со знанием дела Эдуард и Милн проверяют пистолеты, суют в карманы курток запасные обоймы. Мужчины и оружие. Мальчики собрались на войну. Как женщины накладывают косметику перед зеркалом.
— Всё, готовы? — спросила она насмешливо. — Спускаемся в бар?
Оба еще раз на всякий случай оглядели номер Аделины.
— Уж полночь близится, — заметила она им.
Оба кивнули.
Рыцари, подумала она. Сейчас расправят плечи.
Они расправили плечи — почти одновременно.
Сейчас Эдька скажет делово, значительно, — готово, пойдем.
— Готово, пойдем, — сказал Милн.
Эдуард неодобрительно на него посмотрел.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ЛЕСТНИЦЫ И КОРИДОРЫ
Буйствует ветер в бетонной коробке, подвывает, постанывает, пугает — холодный, осенний. По коридору прокатывается, двери крашенные металлические на прочность проверяет. Стучит в стекла ливень. Противно.
Тяжесть автомата приятна. Как ребенок, сомневающийся — можно? нельзя? — Аделина прихватила этот автомат с собой — никто не возразил. Странная радость некоторое время переполняла ее — эти двое считают ее не то, чтобы равной себе в этом деле, но близко. Впрочем, она тут же вспомнила, что значительная часть происходящего происходит по ее, Аделины, инициативе.
Повелительность, как свойство образа, можно развить, но изначально она, конечно же, должна наличествовать в генах. Есть люди, которых никто никогда не слушает — вне зависимости от того, умные вещи они говорят или глупые, и сколько у них денег и совести. Есть люди, заслужившие уважение других с помощью трудных и часто неприглядных дел, сопряженных иногда с продажей души (убийство себе подобных, самый простой пример — внушает невольное уважение тем, кого оставили в живых). Таким людям как правило особенно обидно, когда какой-нибудь сопляк пользуется большим уважением окружения, чем старожил — и все потому, что повелительность у сопляка врожденная.
Сколько Аделина помнила себя — ее никогда всерьез не интересовала власть. Будучи человеком бескорыстным, она охотно делилась временем, дружбой, вещами, деньгами — с кем попало. Желания подчинить она не испытывала раньше никогда. Всегда, сколько она себя помнила, была она слишком барыня для таких экстремальных потуг. Стать настоящей толстой, благожелательной, ленивой, добродушной барыней ей помешал, скорее всего, исполнительский талант.
Сидение в полной темноте более десяти минут располагает к общению с теми, кто сидит рядом.
— Хоть бы деревом покрыли ступени эти дурацкие, — сказала Аделина вполголоса. — Всю жопу себе отморожу.
— А ты не сиди, чего расселась, — также вполголоса заметил ей Эдуард.
— Колени затекают, если стоять все время.
— Тебе не угодишь.
— Тише, — предупредил Милн. — Разговорились.
— А если он до завтрашнего утра будет там с Демичевым торчать? — осведомилась Аделина. — Может, лучше сунуться?
— Из тебя бы вышел замечательный боевик, — сказал Эдуард. — Таким дурным всегда везет, ни пули их не берут, ни бомбы им на башку не падают. Идет, сволочь, напролом — и, самое удивительное, доходит иногда до цели. Русский боевик Аделина. Квинтессенция инициативности.
— Дурак ты, Эдька. Ты вот, инициативный, и Седрик, тоже инициативный — так бы и сидели в баре, пока бы вас не пришили. Ну, тебе-то, может, и простительно — сидеть да ждать чего-то, это русская традиция, историческая. Но Седрик…
— Тише, — снова сказал Милн. — Не напускайтесь на меня почем зря, барышня, а то обижусь ведь.
— Да уж обижайтесь, пожалуй. Хоть какие-то эмоции проявите. Пора бы уж.
— У меня эмоции проявляются медленно, — сообщил Милн. — Это тоже русская традиция.
— Я вот думаю… — начал Эдуард.
— Видите, — перебил его Милн. — Эдуард думает. Я тоже думаю иногда.
— Где это вы так по-русски научились говорить? — спросил Эдуард.
— А у меня отец русский.
— Как это? — удивилась Аделина.
— Что — как?
— Как у вас может быть русский отец?
— Так же, как и у вас.
— У меня отец еврей, — не растерялась Аделина.
Эдуард и Милн одновременно закусили губы, чтобы не заржать. Аделина хихикнула.
— Вы это серьезно? — спросила она. — У вас действительно русский отец?
— Да, — заверил ее Милн.
— Пиздит он, — сказал Эдуард.
— Эдька, не глупи.
— Хороший мужик, кстати говоря, — добавил Милн. — Художник. Носило его по всему свету. Он сперва не знал, что я у него есть. Объявился, когда мне было восемь лет. И пристроился где-то рядом. Я его любил очень. Года три к нему бегал каждый день, он мне всякие сказки расказывал-показывал. Читать научил.
— По-русски?
— В общем-то и по-английски тоже, и по-французски. Вообще он образован неплохо для русского художника. А потом уехал. Художники такой народ. Непостоянны оне.
— Пиздит, пиздит, не слушай его, Линка, — сказал Эдуард. — Милн, не вешайте девушке лапшу на уши. Блядь, действительно продувает здесь. Вот же догадались — из бетона гостиницы лепить, в этих-то широтах.
— Что ж им, из пластилина их лепить, что ли? — спросил Милн.
— Зачем же. Есть кирпич, есть известняк, да и деревом края не обижены, утеплить где…
— Строитель, — заметил Милн.
— А что?
— А вы разве не слышали блистательную речь Некрасова?
— Это которую?
— Ту, где он говорил, что строительство зданий без учета географии и демографии и еще чего-то уходит в прошлое вместе с нефтью.
— Слышал, ну и что?
— Мы ведь с вами, Эдуард, профессиональные слушатели. Нас учили слушать и запоминать.
— Это вы к чему?
— Странно как-то. Захолустный городок. Ближайший центр — Новгород, в десяти километрах, город очень провинциальный, очень неделовой. Зачем-то в захолустном городке строится многоэтажная гостиница, на обогрев которой зимой нужно тратить колоссальное количество энергии — поскольку, как вы сами заметили, бетонные блоки в этих широтах — глупость, тепло не держат. На что рассчитывали строители гостиницы? Каких гостей ждали? Туристов? Но туристы никогда не слыхали о Белых Холмах. Бизнесменов? Но разъезжие бизнесмены, у которых могут быть дела в Новгороде — а таких мало — остановятся в Новгороде, а не в Белых Холмах. Но даже сам Некрасов, светоч наш, не нашел ничего удивительного в том, что посреди чиста поля, окруженного болотами, стоит этот бетонный сарай.
— Вам этого не понять, Милн, — сказал Эдуард, подыгрывая. — Это русский размах. Гостиница — только начало. Увидите, через год-другой, когда область утвердится в своей полнейшей независимости, тут за речкой построят международный аэропорт.
— С бассейном, — добавил Милн.
— То есть… — начала было Аделина и замолчала.
— Ну, ну? — поддержал ее Милн.
— Вы оба… пересмешники… умники хуевы… хотите сказать, что этот… сарай… принадлежит Тепедии?
Помолчали.
— Умом вы не бедны, барышня, — сказал Милн.
— А Хьюз-то прав, — откликнулся Эдуард. — План был запасной, но все равно его привели в действие, может и стихийно — не знаю. По англо-американскому образцу. Тепедия строила себе Камелот. Самый известный город в стране не должен быть этой страны столицей. Так?
— Все так, — подтвердил Милн. — Вот только есть один момент, который Хьюз упустил — а все потому, что мы ему не все рассказали, и мы еще об этом пожалеем.
Возникла пауза.
— Да, есть такой момент, — согласился Эдуард мрачно.
И снова пауза.
— Что вы мне голову морочите? — возмутилась Аделина. — Какой момент?
— Подожди, Линка. Милн, договаривайте, раз уж начали.
— Да чего там… Вы лично, Эдуард, решили кое-что от меня… и от Хьюза… утаить, не так ли.
— Продолжайте.
— У вас были на то основания, согласен. Но…
— Но?…
— В машине, доставившей сюда Ольшевского, сидели четверо, и теперь я вовсе не уверен, что двое из четверых попали в эту машину случайно и были в этой машине лишние.
— Честное слово.
— Я вам не верю.
— Почему?
— Не верю и все тут. Нет, я не намекаю на то, что у вас лично здесь были какие-то интересы… А вот Ольшевский — другое дело.