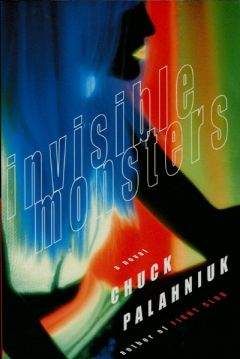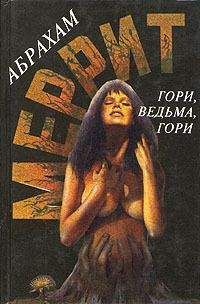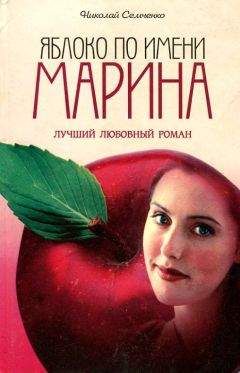Но вот незадача: стихи самой Ларисы Миллер бесконечно разнообразными по интонации — не кажутся. Хуже того, они не кажутся и просто разнообразными ни по содержанию (суть которого художественная мысль плюс стихотворная форма), ни, главное, по направленности авторского внимания. Тут-то, мне кажется, и камень преткновения.
Это стихи очень отстраненного (хотя и не холодного), иногда чересчур уж, кажется, удаленного взгляда. Оттого-то и так гладка их поверхность. Поначалу они притягивают, вызывают желание прикоснуться, подержать в руках и перенять эту иллюзию внешнего вселенского, бытийного отстранения. Они весомы. Но иногда кажется, что их ценность могла бы надолго ощущаться лишь в том случае, если бы таких стихов было не много. У Ларисы Миллер их не много, а — очень много…
Почему так? Может быть, потому, что нашлись для нее и другие «учителя»? Что-то они ей надиктовывают? Может быть, это — от них?
Электронная начинка,
Примитивная починка:
Батарейку заменили,
И часы засеменили.
А они теперь без тика.
Хоть и мчится время дико,
Хоть, как прежде, убывает,
Но бесшумно убивает.
Ни бим-бома, ни тик-така,
Только тихая атака:
Час не стукнул и не пробил,
А подкрался и угробил.
Нет, спорить с автором тут не станешь. Все верно. Вот только вспоминаются другие строчки другого поэта — причем из, в общем-то, не дорогого мне стихотворения: «Это — время тихой сапой / Убивает маму с папой» (Бродский, конечно). Вспоминаются — и трогают гораздо сильней. А строчки Миллер — уже не трогают. Нет, здесь о камертоне говорить не приходится. Пойдем дальше…
Интересно, что случится,
Коль на время отлучиться,
Ненадолго выйти вон
Из потока дней, что мчится,
Все живое взяв в полон.
………………………..
Убежать от оста, веста,
Зюйда, норда, из контекста,
Что написан на роду…
Только ты держи мне место
В этом веке и году.
«Из какого сора» выросло это стихотворение Миллер 2000 года? Боюсь, что из… опубликованной в 1999-м знаменской подборки Кибирова «Новые стихи». Вот первый кибировский стишок оттуда (эх-эх, так вот и придаем всякому случайному падальцу хрестоматийный глянец):
В общем, жили мы неплохо.
Но закончилась эпоха.
Шышел-мышел, вышел вон!
Наступил иной эон.
В предвкушении конца
Ламца-дрица гоп цаца!
Поэтессе не могут быть не скучны такие стихи (см. ее эссе «Пронеслася стая чувств…», 2000). Как не могут не быть скучны и другие строчки того же автора (цитирую по эссе Миллер «С пятого на десятое», 2000):
Если долго не курить —
так приятно закурить!
И не трахаться подольше
хорошо, наверно, тоже.
Ну, это само собой. Голову лучше лишний раз поберечь. Но речь у меня не о том. А о том, что неприятие «культурного цинизма», рожденного «классиком вдохновенного кривляния», таки вдохновляет куда более уважаемую мной поэтессу на ее (может быть, неосознаваемый) «ответ Чемберлену». В котором она терпит поражение. То есть и неприятие есть, и пишет-то она, казалось бы, о своем, а вот ёрничество — уже не на смысловом, конечно, а на ритмическом (точнее, интонационном) уровне — оказалось, увы, заразительно. Понемногу живую поэзию убивая. Тихой, так сказать, сапой. И, увы, не совсем чтобы случайно.
К сожалению, авторский стиль Миллер подкреплен неким — сомнительным для меня, но признаваемым ею — постулатом. Комментируя одно из стихотворений С. Гандлевского, она пишет: «Разве не метафизический ужас диктует эти „частушечным стихом“ написанные строки? Но писать навзрыд сегодня вряд ли возможно. Запас слез исчерпан. Как и запас высоких слов. Исчерпан не данным поэтом, а всеми предыдущими. Душа идет вразнос, а ритм остается прежним — плясовым (курсив мой. — В. Ц.)». То, что поэтесса видит в некоем литературном круге, принимается ею как нечто повсеместное и оправданно-неизбежное, узаконенное будто бы самим временем.
Странно. Ведь, казалось бы, понимание того, что любое время глядит на все предшествующее чуть свысока и глазами непременно (ноблесс оближ) сухими, не требует какой-то особой мудрости. И так скоро доверяться иллюзии, что ты находишься «на верхушке времен», не стоило бы. Или не придут вослед и те времена, которым наше покажется донельзя простодушным и наивным?
И когда поэтесса принимает за факт собственную догадку о том, что «истории важен только сухой остаток, то есть стихи», то мне ее очень жаль. Как жаль вообще любого, для кого стихи — «сухой остаток», нечто вроде гербария. («Ты помнишь рифмы влажное биенье?» — спрашивает поэт. Выходит, не помнят…) И жаль гораздо сильнее, чем египетских фараонов; те-то знали, что их «сухой остаток» достается царству мертвых. У них бы не получилось столь наглядного несоответствия между протяженным содержанием и конечной формой, как у нашей поэтессы:
Точно вспышка — есть и нету.
Не поймать за хвост комету.
Нынче вместе, завтра врозь.
Все приснилось, пронеслось —
Блицлюбовь и блицсвиданье.
Долго длится лишь рыданье,
Долго длится только плач.
Остальное мчится вскачь.
(Курсив мой. — В. Ц.)
Но не сможет Миллер-поэтесса ни для чего «долго длящегося» выбиться из ритмической сухости, пока Миллер-эссеистка толкует о какой-то исчерпанности. И все заклинания останутся лишь пустым, щелкающим, действительно сухим звуком:
Ритенуто, ритенуто,
Дли блаженные минуты,
Не сбивайся, не спеши,
Слушай шорохи в тиши.
Дольче, дольче, нежно, нежно…
Ты увидишь, жизнь безбрежна,
И такая сладость в ней…
Но плавней, плавней, плавней…
Будь я поэтом точно такого дара, как у Ларисы Миллер, я бы себе писать хореем — просто запретил. По крайней мере четырехстопным. Какая уж «плавность» там, где энергия явно избыточна, где она так и подхлестывает. Вообще, четырехстопный хорей часто создает впечатление, будто слова обгоняют не только самого автора, но и мысль его. Что впору для удержания кратко уловленного мгновенья («Перестрелка за холмами; / Смотрит лагерь их и наш; / На холме пред казаками / Вьется красный делибаш…» — а! каково! одно слово — Пушкин[9]), то никак не годится для долгих, почти стоических размышлений и выводов. Не потому ли смысл и глубина большинства стихотворений Миллер — увы, не изменчивы ни в зависимости от моего опыта, ни в зависимости от моего, читателя, настроения. Сухое — не сохраняет оттенков. И не имеет такого качественного параметра, как глубина.
Непроизвольная же притягательность (и глубинная охватность) проявляется для меня не в тех «экзистенциальных» стихах Миллер, что действительно когда-то смогли зацепить (их давно уже заслонили бесчисленные клоны), а, например, в таких неожиданных, а потому изумляющих:
…Коль ты сегодня при часах,
Скажи мне время —
Хочу узнать, когда в краю,
Где столько лиха,
Бывает тихо, как в раю.
Тепло и тихо.
Такие «простодушные» строчки — настоящий подарок для читателя. И я радуюсь тем стихам Ларисы Миллер, которые сопротивляются ей самой и опровергают «кредо» ее же «поточных» стихов. Например, вот этим, действительно несуетным и неторопливым:
Плывут неведомо куда по небу облака.
Какое благо иногда начать издалека
И знать, что времени у нас избыток, как небес,
Бездонен светлого запас, а черного в обрез.
Плывут по небу облака, по небу облака…
Об этом первая строка и пятая строка,
И надо медленно читать и утопать в строках
И между строчками витать в тех самых облаках.
И жизнь не хочет вразумлять и звать на смертный бой,
А только тихо изумлять подробностью любой.
Или этим — с удивительным реестром поэтических чудес, абсолютно не теряющих своей поэтичности оттого, что уложены здесь в продуманный, в общем-то, ряд:
Это — область чудес
И счастливой догадки…
Капля светлых небес
Разлита по тетрадке.
Область полутонов
И волшебной ошибки,
Где и яви и снов
Очертания зыбки.
Область мер и весов,
Побеждающих хаос.
Это мир голосов
И таинственных пауз.
Здесь целебна среда
И живительны вести,
И приходят сюда
Только с ангелом вместе.
Блаженное наитие, которым, казалось бы, и должен быть ведóм поэт. И «виноват» ли наш автор в том, что почти ничего, кроме «мер и весов», из явившемуся ему арсенала — им не используется? Пустой вопрос. Дело-то не в ответственности за удачи или промахи, а в их причинах, в тех корнях, откуда они произрастают.