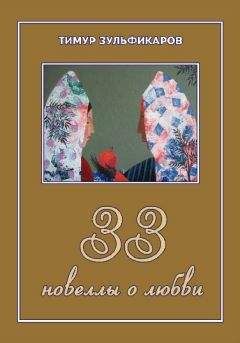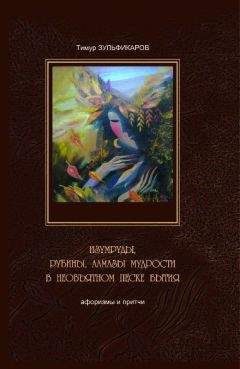Ах, откуда у тебя ветвь розового ходжентского канибадамского миндаля, летящая по весенним талым улочкам моего родного колыбельного Душанбе, где я бреду, плыву, лечу, витаю по плывущим улочкам, где я уже зрело млад, а ты еще недозрело зелена юна…
Я уже седой поэт, я приехал вернулся из лютой Москвы ненадолго в родной такой маленький неказистый кривой блаженный городок Душанбе…
А ты еще школьница в форменном коротком платьице с белым фартучком летучим и две косички льняные русские вьются спадают плещутся по твоим кошачьим чутким ушкам по сиреневым талым глазам шалым твоим, слегка раскосым от пыли азиатской…
Азиаты азьяты блаженны раскосы глазами от вечной пыли, а бездонны душами от вселенских близких плеяд над горами и пустынями…
И вот я брожу летаю витаю по родным душистым улочкам в поисках распахнутых доверчивых быстропокоряющихся переспелых дев и жен…
Я древний умелый охотник на вешних дев и жен, как все поэты, бродящие в садах жен…
Весна — пора любовных охот… у оленей осенью гон, а у человеков — весной, а у поэтов — весь год…
И вот я бреду брожу по пахучим улочкам в поисках пахучих лакомых открытотелых запутавшихся дев и жен, а встретил недозрелую школьницу-юницу… тебя, тебя, тебя… айхйяяя…
И я люблю творить из спелых дев неумелых недозрелых сладчайших жен, жен, первожен, а тут встретил тебя и споткнулся замешался… замаялся, как охотник без ружья… увидевший дичь близкую сладкую покорную…
И в горячительных туманных дурманных твоих нежнольющихся руках — ветвь канибадамского розового миндаля… миндаль раньше всех цветёт в февральских беспробудных снегах…
И вот ты рано расцвела, миндальная девочка розоволикая моя, и вышла на весенние улицы, где бродят девы готовые стать женами…
А ты средь них миндальное дитя, дщерь, агница, ветвь юная розоволикая моя… агнец доверчивый средь вешних волков…
Кто пустил тебя на эти улицы
Где матушка и батюшка твои
Где братья сестры заступники первомладости твоей…
Кто дал тебе ветвь первоминдаля миндальная девственница моя…
…Ах, тогда она шепчет, качая ветвью миндаля у лица моего:
— Мы с моим женихом поехали в Варзобское ущелье за первыми цветами миндаля в снегах, но там с горы сорвался сошел камнепад и бросился на нас…
И мой жених меня оттолкнул под скалу и спас, а сам бросился на камнепад и загородил меня… и куст цветущего миндаля… С той поры я хожу с ветвью миндаля… а потом — с веткой варзобской персидской сирени…
О Боже… а что я…
Она еще миндальная розовая ранняя раненая девочка невеста, а уже ранняя миндальная снежная свежая вдова…
И с этой раной она вышла в вешний город, чтобы эту рану залечить забыть…
О Боже… а тут я… А куда я?.. куда меня влечет ранняя талая миндальная весна?..
О Боже… что я?.. куст расцветший талый хладный во снегах?..
А?..
А я в дыму чаду весенних родных первобытных колыбельных улиц родимых моих, где я был розоволикое дитя у колен матери моей, а Пророк говорит, что «рай находится у ног наших матерей»…
А я вспоминаю слова древнего шейха Саади, словно и он нынче вышел на вешние текучие душанбинские улочки из райского сада из вечножемчужного савана своего: «О, отрок, всякую весну начинай новую любовь… забудь о прошлой любви… зачем тебе перелистывать прошлогодний календарь…»
А?..
О, весной ранней можно встретить в дымчатых сиреневых сумерках даже давно усопших — так велика загробная тоска их по земле… а наша — по небесам…
О, шейх, о странник двух миров, о, уставший от бессмертья…
И вот я устал от жизни, а ты — от вечности…
И я ищу на родных улочках новую весеннюю любовь, но знаю, что весной она скоротечна, как цветущие персики и урюки, объявшие мой родной город…
А?..
Весенняя лихорадка, гон человеков, спячка, болячка, горячка, любовь двуединая скачка начинаются, когда в снегах цветёт восходит куст розового первоминдаля и кончаются, когда у реки Варзоб-дарьи осыплется последний куст медоволиловой крупитчатой зернистой персидской варзобской сирени…
О, как люблю я вдыхать смаковать твои соцветья медовопереспелые…
О, я готов отведать съесть их сиреневость их густо пьяную истомную сомлелость! Сирень опала, любовь увяла…
О любовь весенняя!.. Куда ушла ты?..
От снежнорозового куста первоминдаля до медоволилового куста осыпчивой персидской сирени — любовь вода талая весенняя твоя!.. да!..
И ты торопись!..
Беги!.. Люби! Хватай! раздевай! пылай! беги!
Как все вешние бешеные нагорные ручьи, как все глиняные бушующие реки, сели, камнепады, пылай! страдай! умирай! восставай!.. воскресай!..
Пока бегут твои маковые пианые жилы вены как талые мускулистые бугристые ручьи… Ииии!.. Айхххххйя…
О Боже!.. Что я? Куда я?..
Куда мне деваться прятаться с ней, когда пришла её пора? её срок?..
И она ветвью миндаля бродит щекочет трогает глаза мои: возьми! возьми! обними! соблазни! разрушь сладко обреченно меня меня мя… Если нет соблазна — нет и жизни!.. Жизнь зачинается во грехе как горная река в леднике…
И я беру её ея за свободную хладную мраморную — весной и мрамор тает — нежнольющуюся руку, в которой нет ветви розовопенного снежного миндаля и влеку её и она влечет меня…
Куда? куда? куда?.. ах не знаю уже слепо! уже сладко! уже обнаженно хотя мы в одеждах бушующих еще! еще! но уже обреченно знаю я я я… что я наг в одеждах моих и она нага…
И она уже знает, что покорна мне необъятно наго в одеждах своих… А весной и бушующие ручьи наги, это зимой они бредут в одеждах льда льда…
… Любовь — это смерть одежд…
Любовь — это нагота надежд…
…И мы бежим по талому спелому родному городу моему в жажде сбросить тяжкие одежды наши, как сырые кишащие змеи весною сбрасывают теряют шершаво жемчужные щекочущие кожи чешуи свои…
И прибегаем на окраину, где в глиняной сырой кибитке живёт мой тысячелетний Учитель любви глинник, гончар, древний мудрец армянин Аршалуйр Саркис Вартапед…
И мы вбегаем в кибитку его, где он лепит кувшины кумганы и райских птиц расписных…
И он весь в глине творенья, и он сыро первозданно плотоядно обнимает нас скользкими плывущими глиняными руками…
И мы становимся глиняными покорными, как будто он вылепил и нас из своей всхлипывающей глины, как птиц глиняных его и кувшинов…
И он наливает таджикского шахринаусского рубинового вина тягучего в глиняные чаши…
И мы пьём вино вязкое дремучее падучее маковое и становимся маками афганскими нагими…
И соприкасаемся губами и руками, готовыми для соитья макового…
Живой текучий плодоносный пурпур рубин гранат струится бьётся в венах наших… и готов порвать их…
И мастер Аршалуйр Саркис тысячелетний мудрец вдруг опьяненно стонет вопиет шепчет дрожащими глиняными рубиновыми губами:
— О, Творец! Необъятный Гончар мирозданья! Я тысячу лет искал такую натурщицу!..
Да это же Нефертити! Хатшепсут! да это ж древнеегиптянка… таких равнобедренных тугобедренных тел! таких человечьих геометрий уже нет на земле…
Когда Творец лепил первочеловеков — Он не хотел разницы между Мужем и Женой…
И потому у отроков были тела дев, а у дев — отроков…
Но потом Творец дал груди и лоно бездонное кишащее — деве, а отроку — фаллос, исполненный семян, как Сахара песков…
А потом человеки в блуде перемешались и не стало красивых чистых тел как были в древности… нет чистых рас…
Ах, разденься древнеегипетская девочка-юноша, не стыдись, не бойся меня…
Я уже стар… я только полеплю тебя… ты станешь вечной из глины моей…
Разве ты не хочешь быть вечной, быстротленная девочка-мальчик моя?..
О Боже!..
Она глядит на меня, и ждёт, чтобы я сказал приказал ей, и я шепчу…
— Разденься… он просит тебя… он не тронет тебя… а только полепит тело древнеегипетское твоё… откуда оно у тебя… А?..
Как имя твоё?.. Хатшепсут?.. Нефертити?.. Неферт?..
Айххххххйаааа…
Тогда она снимает школьное тугое тёмнокоричневое платье с белым, как полевая ромашка, фартучком и ложится стыдливо наго на живот на бухарский древний ковёр…
Она вся ослепительно осиянно жемчужная! она вся альпийская нетронуто испуганно снежная! она вся словно из слоновой кости гладкая!.. ладная… лакомая… нет следов на снегах девьих альпийских её…
Жених её оставил девственной её…
О Боже больно очам моим от этой нагой девственной жемчужности!.. О!.. Боже… дай мне не тронуть её!.. не разрушить девьего гнезда её…
И тут Аршалуйр Саркис меткоглазый медово бешено шепчет, лепечет: