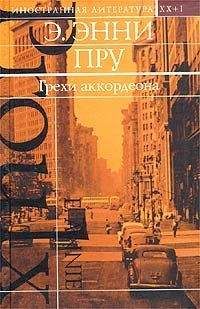– Но ведь кот вполне здоров.
– Пока, – ответила traîteuse.
Смерть пришла за рыжим котом
Рыжему коту было девять лет отроду, и он не прожил даже первую из своих жизней. Но, как это иногда случается, в несколько коротких минут ему пришлось расплатиться за все.
Как многие удачливые существа, он был эгоистичен, ел раков, только если мадам Мэйлфут снимала с них панцирь, презрительно отворачивался от обезжиренного молока, маслу предпочитал sauce roulée[249], однако не раз бывал пойман за вылизыванием этого самого масла со дна тарелки; ему достаточно было лениво поскрестись в заднюю дверь, как мадам мчалась навстречу с обещаниями угостить сыром, ибо он любил квадратик доброго крепкого сыра больше всего на свете, не считая свежепойманой молодой мыши – молодой настолько, что она не успела еще отрастить застревающую в горле шерсть, и ее можно глотать живьем вместе с костями, ощущая приятную frisson [250] от извиваний во рту.
Он редко покидал ферму Мэйлфутов, поскольку был слишком тяжел для приключений, но хорошо знал межи и заборы, и точно рассчитывал время, за которое нужно проскочить соседский выпас так, чтобы старый козел успел переполошиться и воткнуть рога в плетень, а сам рыжий кот – благополучно унести лапы. Иногда он перебирался через дорогу и опустошал миску с объедками, которую соседский мальчик выставлял для тощей собаки, но всегда внимательно смотрел по сторонам и близко не подпускал прохожих, особенно если в руках у тех имелись пистолеты, палки, веревки, плетки, сетки, камни и другие опасные предметы. Никто не имел права к нему прикасаться, кроме мадам Мэйлфут, но иногда он отталкивал и ее, а то и расцарапывал заботливые руки. Когда он еще не был так тяжел, он неплохо карабкался по персидской сирени и хватал лапами птиц. В расцвете своих сил он цапал ласточек прямо в воздухе, но и до сих пор оставался первоклассным ловцом крыс и мышей: мог бесконечно долго сидеть в траве, пока не обнаруживал там еле заметное шевеление, затем – зад перемещается в одну позицию, потом в другую, хвост дугой, глаза горят, прыжок – и гарантированное часовое развлечение: он позволяет мыши уйти, снова прыгает, отпускает, подбрасывает в воздух, ловит за задние лапы, крутит, как клубок ниток, катает, притворяется, что упустил совсем, засмотревшись на движение в траве, вздрагивает, когда изумленная мышь бросается наутек, накидывается на нее опять и так до бесконечности, пока истощенная жертва наконец не умирает, но даже после этого он еще долго пробует ее на вкус, почти надеясь оживить своими грубыми прикосновениями.
Спустя две недели после fais dodo Ольга Бакли все так же болталась по округе, хотя Уинни с магнитофоном давно уехала на север. Фотографиня успела взять измором все прирученные аспекты каджунской жизни, и теперь ее интересовали запрещенные законом петушиные бои, охота на аллигаторов с включенными фарами, лошади, которых с помощью трав и наговоров заставляют проигрывать или выигрывать забеги, межрасовые браки, соревнования по армрестлингу с громкими щелчками локтевой кости побежденного, состязания в гляделки, кровавые западни, жертвы перестрелок, истории об изнасилованиях и надругательствах, штурмы винокурен, болотные поселения с пристанищами для беглых преступников и, как ей было обещано на субботний вечер, смертельные собачьи бои. Ввязываясь в эти темные дела, она не считала, что занимается чем-то предосудительным, словно щит, выставляла вперед фотоаппарат и была уверена, что находится в привилегированном и безопасном положении, поскольку имеет репутацию важной персоны, прибыла с севера, да и вообще ей лучше знать, что и как.
Рыжий кот вдруг оказался в ловушке. Когда он выковыривал остатки пищи из миски соседской собаки, сверху на него упал мешок, да с такой стремительностью, что вместе с котом были похищены собачья миска, кольцо спинного хрящика и холодный камень. Сначала он попытался выбраться на свободу, острые, как бритва, когти просунулись сквозь ячейки материи, но похититель связал мешок двойным узлом и закинул в кузов поджидавшего неподалеку грузовика, который тут же выскочил на шоссе и помчался прочь сквозь золото вечернего света. В мешке царапался и извивался кот – бился, впадал в отчаяние, орал и взывал к отмщению, лупил по миске с такой яростью, что она почти сразу раскололась, разлетелась на мелкие куски, но куда им было деться из завязанного мешка – наконец грузовик подъехал к портовому складу, где уже ждали мужчины, собаки и фотографиня.
Собаки были натасканы на драку, уши обрезаны, хвосты обрублены. Они не знали покоя. Сегодняшний победитель через несколько дней должен был драться вновь, и каждый бой заканчивался смертью. Пес жил до тех пор, пока побеждал. Из рук в руки переходили очень большие деньги. Хороший собачник мог жить на выигрыш и не работать. Рыжий кот открывал представление – закуска, призванная разогреть собакам кровь, настроить их на убийство.
Рыжего кота бросили на песчаный круг, примерно двадцати футов диаметром, обнесенный мелким сетчатым забором с рейками поверху. Мужчины курили, жевали, разминали сигареты, вгрызались в жареные куриные крылышки и собственные ногти, сосали пальцы, ороговевшими ногтями выковыривали из зубов остатки мяса, опирались на ограду, свешивая с нее руки. Рыжий кот свалился в середину круга, и все закричали. В шерсти его застряли камешки. Он был огромен, шерсть встала дыбом от страха и ярости. Он метнулся к сетке, еще надеясь выбраться. На ринг выпустили трех собак, и они набросились на него все сразу, рыча, кусаясь, тормозя лапами, и крутясь волчком так, что кот тоже вертелся, и летал между ними, описывая зигзаги. Передышки не было. После каждого финта спереди следовал ответ сзади. Он расцарапал нос одному псу, другой схватил его за загривок и как следует тряхнул, его задняя часть уже не двигалась, но глаза еще сверкали, и он отбивался. Все кончилось через несколько минут, когда кошачья голова попала в пасть черного приземистого пса. Хрустнули кости. Рыжий кот погиб.
Но когда собак отозвали, тело – вместо того, чтобы сгрести через заднюю дверь и бросить в ручей, – опять положили в мешок, и тот же самый грузовик покатил на восток. Чьи-то руки перебросил труп через мэйлфутовский забор, и он упал почти рядом с задней дверью. Через несколько минут грузовик, проезжая мимо дома Бадди и невестки, четыре раза прогудел клаксоном. Бадди был на буровой, а невестка так и не очнулась от глубокого подлунного сна – ей ничего не снилось.
Фотографиня вела машину, с трудом удерживаясь на полосе из-за разгоравшегося точно впереди рассвета; глаза жгло от дыма, мышцы после целой ночи на ногах стали почти резиновыми, изо рта несло всеми выкуренными сигаретами и газировкой. Она часто зевала, раскрывая во всю ширь пещеру рта, глаза слезились, челюсть щелкала, а из брюха доносился настоящий грохот – в таком состоянии она ползла по жидкой грязи (всю ночь лил дождь), и, поравнявшись с домом Мэйлфутов, увидела, как из-за угла бредет средних лет женщина в длинной ночной рубахе, заляпанных грязью шлепанцах и с распухшим от слез лицом; по земле она волочила остроконечную лопату.
Фотографиня притормозила, затем остановилась, нацелила камеру на грязное стекло, подумала, что так ничего не получится, вышла из машины, облокотилась на капот, сквозь чистый воздух навела объектив на несчастную женщину, пронзенную зеленым рассветным лучом, и принялась щелкать затвором. Женщина не поднимала головы. Фотографиня подошла поближе, оперлась на забор и сделала еще несколько снимков. Женщина подняла взгляд от земли. Сквозь затянутые слезами зрачки застывшая в воротах девичья фигура, патетично величественная в лучах восходящего солнца, показалась ей объятым неземным светом ангельским воплощением ее дочери Белль, что явилась специально успокоить свою бедную мать.
– О, chére, – зарыдала мадам. – Слава всевышнему, ты пришла ко мне.
– Она выпрямилась, вытянула руки и, шатаясь, побрела вперед. Гостья, закрываясь камерой, как щитом, снова и снова фотографировала надвигавшуюся на нее женщину. Она чувствовала горько-соленый запах ее тела.
– Белль, – простонала женщина. – Bébé. Ma chére, ma fille[251]. – Она обняла ее, прижавшись к камере, вгляделась в лицо – как же девочка изменилась, – но мать понимала, зачем этот уродский карнавал: никто не должен знать, что она вернулась из царства мертвых. Она схватила ее за руку и потащила к дверям.
В кухне фотографиня села за стол; ей было не по себе. Больше по привычке она взяла камеру и принялась снимать интерьер: стул у окна, стеклянную банку с рисом. Мадам Мэйлфут все прекрасно понимала. Если дочь вновь позовут в рай, домашние фотографии, по крайней мере, скрасят ей одиночество. Она провела ее по лестнице в прежнюю спальню, показала портрет, томившийся в темноте за крышкой туалетного сиденья, разгладила подушку. Она завела ее в каждую комнату, в гостиную, кладовую и в кухню, хотела накормить красной фасолью с рисом, уговорила выйти на крыльцо, подняться по внешней лестнице и заглянуть в комнату, где, разметав спутанные седые волосы, спал отец, затем они прошли по двору к дереву, где дочь играла еще ребенком и к дальней стороне сарая – посмотреть на свежую могилу рыжего кота. С болотистого ручья на противоположной стороне дороги поднялась стая цапель.