Анатолия Сахара и Павла Артамонова похоронят по месту прописки. Неопознанную девушку на районном кладбище под номером «015».
За всю историю «нового» кладбища под районным центром на нём только шестнадцать раз хоронили нездешних. Было ещё «старое» кладбище, с другой стороны города. Прямо в центре большого железобетонного завода. Предприятие расстраивалось, достраивалось, модернизировалось и расширялось так, что двадцать лет назад полностью огородило собой большое поле, используемое местными жителями для захоронения себя же. В смысле те горожане, которые ещё не умерли, закапывали здесь время от времени тех горожан, которые всё-таки взяли и умерли. Но теперь получалось, что усопшего приходилось вносить через проходную ЖБИ-9, проносить мимо цеха арматуры и хоронить рядом со здоровенным открытым Полигоном Готовой Продукции.
Поэтому двадцать же лет назад появилось новое кладбище. И на нём горожане, все поголовно знавшие друг друга, продолжали хоронить таких же, как они, только умерших. И только шестнадцать раз на этом «новом» предавали земле нездешних.
До такой степени нездешних, что никто из местных не знал их имён. И милиция не смогла выяснить.
Четверо из них были женщинами.
Двое погибли в одну и ту же секунду (то есть одновременно).
Одна была обезображена.
Её тело лежало на полутораметровой глубине под номером «015».
Под номером «016» год и три месяца спустя похоронили неизвестного мужчину непонятного возраста, неприметной внешности и неопределённой национальности.
Я долго не могло понять: знает ли она обо мне?
Догадывается?
Слышала?
Ощущала вибрации?
Теперь знаю: Да.
Я (предполагало? ожидало?) надеялось, что она обрадуется.
Может, удивится.
Может, испугается.
Удивится и испугается.
Или сначала испугается, а потом удивится.
Может, обрадуется.
Может, нет.
Но отреагирует.
Не удивилась.
Отмахнулась, как от назойливой мухи.
Когда Я пыталось докричаться до неё, достучаться — она отгородилась от Меня.
Создала бронированную стену Льда.
Укрылась за свинцовыми щитами Тишины.
Создала зону отчуждения, обнесённую тремя слоями Безмолвия.
Я в бесцветной, безсветной пустоте.
В Нигде.
В бескрайнем тупике.
Пылинка в запаянной коробке из под конфет. В которой даже запаха — и того не осталось.
Ничто в Нигде.
Когда-то одна девочка бросила любимого котёнка. Променяла его на новую комнату, в новой квартире. Была счастлива тогда? Не помнит.
А как подпирала дверь своей новой комнаты новым стулом? Как слышала по ту сторону странный, незнакомый и от этого страшный голос знакомого человека? Стоны и скрежет его зубов? Не помнит.
Память.
Память — это тысячи пылинок, скапливающихся на неподдающейся воображению поверхности. Лишь с двумя ограничителями: «рождение»/ «смерть».
Пылинки. Хаотически падающие и не имеющие практической пользы. Не помогающие. Не мешающие. Обрезки плёнки в мусорном ведре под столом монтажёра.
Молочно-резиновый вкус соски во рту и…
Всё.
Ни места, где это произошло. Ни, в какое время суток. Тепло или холодно было? Ничего. Просто: резиновая соска во рту и вкус молока.
Сильная боль в одной из мышц тела и «ссс!» — словно попытка произнести долгую S, сжав зубы и сильно втягивая воздух в себя.
Хвоя и цитрус — это запах. Причём один.
Вкус помады на губах. Своих? Чужих?
Запах слюны. Явно чужой.
Резь в глазу — ресница попала. Когда?
Руки без варежек с мороза — хвать! Большую кружку с горячим чем-то, и «ссс!» — воздух в себя сквозь зубы. Где?
Обрывок какого-то стихотворения без начала и конца. Без рифмы и смысла. Зачем?
Пылинки.
Скапливающиеся на неподдающейся воображению поверхности. На которой неподдающаяся воображению рука может вывести всё что угодно. Прямо поверх пылинок. А неподдающаяся воображению ладонь может однажды смахнуть все пылинки напрочь. И останется чистая, поддающаяся воображению поверхность. На которую можно горстями сыпать теперь пыль — бесполезно. Всё уже.
Когда-то:
— Ртуть, — говорила она, словно пробуя слово на вкус. — Ртуть.
Пылинка в запаянной банке из под конфет.
Ничто в Нигде.
В не сухом и не мокром. В не светлом, но и не тёмном. Без стен, но.
Можно представить в воображаемом центре этого воображаемого Нигде — крепкий ящик.
Несгораемый и не существующий материально шкаф.
Бронированный сейф.
В котором:
Серые крылья, застывшие во времени;
Серые мерцающие крылья, режущие неподвижное пространство, несущие его и одновременно вязнущие в нём же;
Крылья, замершие и двигающиеся в один и тот же момент.
В котором:
Тонкий и очень высокий скрип отполированного, как зеркало металла, и тупой (БУП!) звук сильного удара.
Было?
Она забывает обо мне.
Делает вид, что Я не существую.
Ей кажется, что Мой голос — это её голос.
Что Я — это Она.
Не самая из лучших её частей — не смелое, не решительное… какое ещё из «не»?
Не?
Ночью? С ножом? В коридоре под дверью детской?
Не было? Железа, пробующего глаз на прочность?
Не было тяжёлого стального лома? Такого холодного, что к нему примерзали отпечатки пальцев?
Чёрные плотные конверты со страшными снами, запечатанные чёрным сургучом.
Вороненые ящички с наборами пробирок, в которые собраны все-все — до единой — слёзы.
Непрозрачные запаянные чёрным воском контейнеры. С безжизненными запахами. Какими?
Привокзальных туалетов вперемешку с хозяйственным мылом;
Овощного рагу пополам с ртутью;
Хватит?
Ничего этого не было. Не было. Нет.
Когда-то одна девочка променяла любимого котёнка на новую квартиру.
Когда-то одна девочка провела ладонью и смахнула всю пыль.
И только одна пылинка чудом забилась под ноготь.
Я.
Ошибка?
вынуть? / форматировать?
вынуть И форматировать?
— Цок! Цок! Цок! Цок! — высокие хромированные каблуки белых туфель по идеально чистому, слегка влажному после недавней уборки, безупречно отполированному мрамору.
Этот звук заставляет реагировать на себя.
Принуждает обратить на себя внимание.
Он как настойчивый строгий сигнал — «Оглянись!».
— Цок! Цок! Цок! Цок!
Компетентный мужской журнал PLAYBOY вывел несколько визуально и эстетически привлекательных для глаза мужчины женских образов. Образов, практически идеально подходящих любому психо-сексуальному типу мужчин. Даже самый извращённый некро-педо-зоо с удовольствием выберет себе одну из Топовой Пятёрки.
Нормальному и ненормальному мужику хотя бы раз хочется трахнуть Стюардессу, Горничную, Училку, Женщину В Форме Силовых Структур, Медсестру.
Медсестру с чёрными до плеч волосами.
С причёской в стиле европейского кино середины шестидесятых.
С причёской, в которой концы волос, едва касающиеся плеч, завиты кверху крупным полукольцом.
Медсестра в белом халате до середины бедер длиной.
В белом халате, аккуратно затянутом на тонкой от рождения талии.
В руках объёмистая папка.
Длинный, чёрный, остро заточенный карандаш в чёрном кожаном футляре.
Стремительные колени разрезают воздух.
На красивой гладкой щиколотке — тонюсенькая золотая ниточка.
Высокие хромированные каблуки белых туфель:
— Цок! Цок! Цок! Цок! — по идеально чистому, слегка влажному после недавней уборки, безупречно отполированному мрамору огромного больничного холла.
На гигантских часах над регистратурой — «18.01».
Минуту назад в Многопрофильном Больничном Комплексе началась очередная двенадцатичасовая смена. Все медработники с крейсерской скоростью движутся на свои определённые КЗОТ и штатным расписанием рабочие места.
Медпункт немыслимых размеров: двенадцать этажей, больше сотни палат, километры коридоров, лифты.

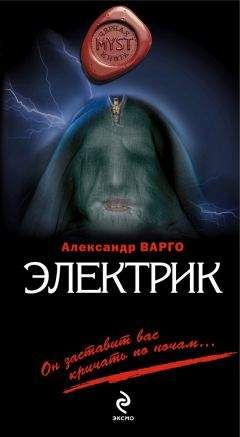

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)
