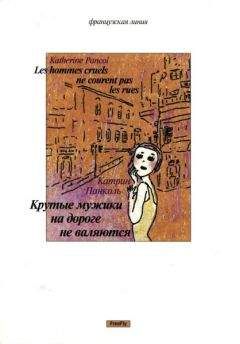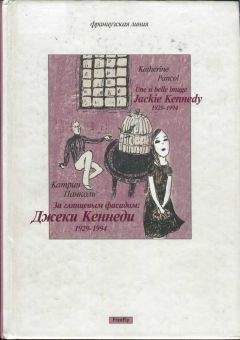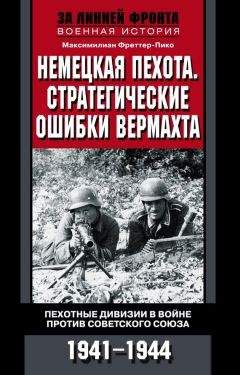Отбиваясь от приставаний Чертовки и стараясь не слышать рыданий хлопочущей у плиты С-леденцом, я боялась окончательно упустить из виду Замечательную девушку, которой собиралась стать.
И все-таки я держалась.
Убеждала себя, что если с Аланом не получилось, то можно попробовать стать замечательной для кого-то еще. Если начать пасовать при первых же трудностях, ничего не добьешься. «The difficult I do it right now, the impossible will take a little while».
Рита утешала меня как могла, предсказывала приход Принца и торжество любви. Мне оставалось одно: ждать.
Готовить. Работать над книгой.
Подбирать слова.
Ездить в университет.
Сочельник я отмечала вдвоем с Ритой. Приготовила праздничную курицу с картошкой. Настроение у меня было совсем не радостное. Новый год мы встречали у телевизора. «Шесть, пять, четыре, три, два, один… — орал репортер на экране. — Новый год настал! Happy New Year!»[48] Рита повисла у меня на шее и наобещала кучу всего хорошего. А я все думала про Алана и его цимбалистку, представляла себе, как они вместе встречают Новый год. «Happy New Y-ear!» — сигналили автомобили. Люди на улицах обнимались. Поздравляли друг друга. Пусть все плохое останется в старом году. С Новым годом! С Новым счастьем! Водители опускали стекла машин, душили друг друга в объятиях и распевали: «Мы не прощаемся, все впереди». Рита подхватила новогоднюю песенку, я не знала английских слов и стала подпевать по-французски. Я пела и вспоминала папу, его последний сочельник с устрицами, сотерном, шампанским и сигарой… А почему бы, собственно, не поплакать по этому поводу? Мне вообще нравится плакать, и я не собиралась прекращать это восхитительное занятие в новом году.
Все последующие дни мне было грустно, плохо и безнадежно.
И все-таки однажды вечером…
Джо, который давал мне почитать Ринга Ларднера, пригласил меня послушать Диззи Гиллеспи в нижней части города, на Седьмой Южной авеню. Заведение оказалось вполне приличное, джазовое, продвинутое. Мы весь вечер пили водку с тоником. Джо говорил о литературе, о высоком вдохновении и низкой прибыли. Я подумала, что, может быть, он и есть Мужчина, которого я жду. На всякий случай я даже надела зеленую блузку. Мне надоело быть одной. Осточертело. Необходимо было хоть что-то разделить с другим человеком, все что угодно, пусть даже телепередачу для самых тупых или фермерскую курицу.
Я положила голову ему на плечо и закрыла глаза.
И очнулась у него дома. Он поставил диск Гиллеспи. Я снова уткнулась головой в его плечо. Отдала в его полное распоряжение свои руки, губы, груди, ноги. Мне было все равно. Просто хотелось любви. Наверное, и Алан в эту минуту гарцует на своей контрабасистке. Я позволила Джо увлечь себя в спальню, лечь сверху и со страстью накинуться на мое тело.
Я лежала неподвижно и безучастно.
Чертовка кусала локти, орала мне в ухо, что надо бы шевелиться пошустрее, вести себя поактивнее, что таким образом я ничего не добьюсь… «А чего я вообще могу добиться?» — спрашивала я ее, пока Джо пыхтел над моей левой грудью. У меня и так ничего не выходит… Мои отношения с мужчинами неизбежно оборачиваются катастрофой.
Рано утром, отодвинув Джо, спавшего прямо на мне поперек кровати, я нащупала на полу свои носки, мини-юбку, пальто. Стерла краешком простыни подтекшую тушь, поймала такси и успела залезть под одеяло до пробуждения Риты.
Все в моей жизни не так. Это было последнее, о чем я успела подумать, прежде чем погрузилась в сон. Точнее, предпоследнее… потому что потом я решила вернуться в Париж, где меня ждали собственная квартира, друзья, собака по имени Кид, Тютелька с ее манией все а-на-ли-зировать, Тото со своей бородавкой. По крайней мере, они меня действительно любят, и я их тоже, и быть рядом с ними куда интереснее, чем шляться по этому городу, где все больны на голову и смертельно боятся любви.
А наутро позвонил Алан. Он потратил два дня на мои поиски. В конце концов Бонни посоветовала ему заглянуть к Рите, и он нашел в телефонном справочнике ее номер. Ему необходимо было срочно меня видеть.
— Что ты будешь делать через полчаса? — спросил он.
— Да ничего, — ответила я.
— Тогда я сейчас приеду.
Месяц спустя мы поженились. Это получилось как-то само собой. Однажды вечером Алан принес охапку белых роз с золотистыми по краям лепестками, преклонил колено и спросил: «Ты согласна выйти за меня замуж?» И я, ни секунды не колеблясь, ответила: «Да».
Да, я согласна выйти за него замуж.
Согласна связать свою судьбу с кретином американцем.
И всю оставшуюся жизнь спать с одним-единственным мужчиной.
Я была согласна на все.
Восторг переполнял меня.
Алан, однако, полагал, что я дала ответ слишком быстро, а следовало бы подумать. Вдруг мне будет с ним скучно? Все-таки он торговец майками и колготками, да к тому же американец, старый холостяк и бейсбольный фанат… Кстати, а что я смыслю в бейсболе? Кроме того, он терпеть не может Гленна Гулда, которого я слушаю целыми днями…
— Что, правда? Ты не любишь Гленна Гулда? — изумилась я. Впервые встречаю человека, который не тащится от игры знаменитого пианиста и его дырявого стула.
— Мне не нравится его стиль. Он играет слишком сухо и технично. Его игра излишне категорична, она не оставляет пространства для мечты…
— Тогда почему… почему ты все это время молчал? Ведь я его постоянно слушала!
Все это время, пока я старалась не занимать слишком много места в его доме и его жизни, он мучился, слушая Гленна Гулда, потому что…
Потому что любил меня. Любил, не отдавая себе в том отчета.
Я была потрясена.
Сон стал явью.
Он любит меня и только что сделал мне предложение.
Ощущение было очень странным и вместе с тем волшебным: круг замкнулся самым чудесным образом.
Мы поженились быстро и наспех.
Городская ратуша располагалась в деловом квартале, в нижней части города. Мы заполнили анкеты, указали имена и фамилии родителей, свои адреса, профессии, сообщили о предыдущих браках и разводах, что было проще всего, потому что для нас обоих это было в первый раз. Вокруг толпились другие пары — черные, пуэрториканцы, мексиканцы, азиаты, которым трудно было вписывать в клеточки нужную информацию по-английски. Мы стали им помогать, поглядывая друг на друга из-за биковских ручек и старательно выводя имена: Аранчес, Хо Чин, Баранга. Нам хотелось поделиться с другими своим беспредельным счастьем.
Потом мы встали в очередь и дошли до дамы, которая сидела у зарешеченного окошка. Было время обеда. В одной руке дама держала гигантский гамбургер, а другой взяла наши анкеты и механическим голосом попросила нас поклясться, что мы сообщили верные сведения:
— Поднимите руки и скажите: «Клянусь».
Мы поклялись. Дама положила гамбургер, вытерла руку о блузку, отпила глоток диетической колы и сказала:
— С вас десять долларов.
Алан отдал ей десять баксов, и мы отправились искать судью, чтобы скрепить наш брак. Таксист убеждал нас, что мы слишком торопимся, что оформить брак можно в течение десяти дней, поэтому у нас есть еще время хорошенько подумать. «Уже подумали», — отвечали мы, крепко держась за руки. Он пожал плечами и повез нас домой, приговаривая, что мы совершаем ошибку, что брак — верный способ загубить свою жизнь, что он знает о чем говорит и нам стоило бы прислушаться к его мнению.
Алан нашел в справочнике судью с французской фамилией Шарет, выходца из Вендеи, который оказался американцем как минимум в четвертом или пятом поколении и даже свою фамилию произносил как «Черетс». Мы договорились, что на следующий день будем ждать его у себя дома. «Со свидетелями», — уточнил судья, прежде чем положить трубку.
Назавтра я надела зеленую блузку и белую мини-юбку. А Алан для пущей торжественности нацепил галстук и расчесал волосы на пробор. Моим свидетелем была Рита, а Алановым — Бонни Мэйлер, потому что именно благодаря ей мы познакомились. Судья снял пальто и попросил разрешения воспользоваться туалетом. Вернувшись в комнату, он велел нам встать посреди комнаты, со свидетелями по бокам, раскрыл старую книгу и начал скороговоркой читать что-то по-староанглийски. Я ответила «I do»[49], не слишком понимая, что он там бормочет. Мне было все равно. Я смотрела, как Алан с серьезным видом произносит: «I do», и на все остальное мне было наплевать. Потом судья прервал чтение, ожидая, что сейчас мы обменяемся кольцами, но про них-то мы и забыли. Судья пожал плечами и продолжил свою речь.
Посередине огромной пустой гостиной мы поставили столик с бутербродами и французским шампанским, включили Билли Холлидей. Когда судья завершил свою тираду, мы выпили шампанского за наше счастливое будущее и прочую лабуду и закусили бутербродами. Поговорили о Вендее, правда, судья точно не знал, где она находится. Он все пытался вспомнить хоть какие-то французские слова, чтобы меня порадовать, но безуспешно, ему оставалось только глупо улыбаться, когда в разговоре возникала пауза. Я позвонила брату и Тютельке. «Поздравляю, — сказал Тото, — и когда же я смогу лицезреть физиономию твоего мужа?» Слово «муж» звучало так непривычно, что я не сразу поняла, о ком это он… Тютелька некоторое время напряженно думала, а потом сказала: «Я тебе сейчас зачитаю одну цитату, прямо про тебя». В трубке наступило долгое молчание, после чего Тютелька вернулась наконец с цитатой из некоего Онетти: «Все самое важное неподвластно мысли». Это единственное, что я запомнила, потому что все остальное было слишком сложно, да и голова у меня была занята другим. Тютелька пообещала прислать цитату телеграммой, если, конечно, эти кретины на почте не исказят до неузнаваемости великую мысль аргентинского прозаика. Алан позвонил родственникам в Вайоминг, точнее, оставшимся там родственникам, потому что его семья разъехалась по разных городам и штатам. Они тоже нас поздравили.