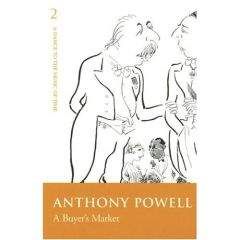Теперь он быстро и легко движется, убирает с письменного стола бумаги и книги, не слушает шутки, повторяемой Англичанином, поводит плечами в ответ на извинения Лагоса.
— Располагайтесь, — говорит он, — делайте что хотите. Можете остаться на пару лет, буду только рад. Если, конечно, вы не поспешите убраться из Буэнос-Айреса… Кто это сделал? — спрашивает он с загорающимися внезапным волнением глазами.
— Фуэнте Овехуна, — отвечает Лагос.
— Я, — говорит Оскар; он наклоняется, заботливо ставит чемодан на пол, выпрямляется и пыхает трубкой. — Все это идиотство, игра. Я убью еще кого-нибудь и сдамся, а они могут скрыться.
Вы начинаете ходить между открытым окном и нишей, где стоит святой Христофор с младенцем Иисусом на плече, а мы садимся, тщательно выбираем места, по очереди их занимаем. Кожа кресла обдает меня усталостью, проникающей в поры; я смотрю на вас и думаю, что вы силитесь вернуть ту радость, то растворение в молчании и одиночестве, которое открылось вам в маскарадной лавке.
— Меня не интересуют доводы, — говорит Англичанин, — я не собираюсь их слушать. — Он кладет ногу на чемодан, бережно держит трубку в руке. — Мы не имеем права здесь находиться. И не вижу смысла. Если в спальне нет женщин, я иду переодеваться. Хочу умереть в мундире швейцарской гвардии. Рене известно про маскарадные костюмы?
— Можете остаться на два года, — повторяет Рене; он показывает мне чеканный профиль, худую щеку, высокий жесткий ежик волос. — Если вы беспокоитесь обо мне, я могу ничего не знать. У меня в гостях друзья, они устраивают здесь бал-маскарад.
Вы продолжаете рыскать туда и сюда, словно ведомая собственной улыбкой. Отдаваясь спинке кресла, отдаваясь усталости и сну, я решаю отказаться от мести, простить вас в честь этой вашей упорной охоты за поводом к счастью, этого решения верить, которое вы принимаете и поддерживаете в час, когда будущее можно рассчитать по минутам, когда все существующие положения кажутся безвыходными.
Англичанин встает, сгибается, чтобы взять чемодан, проходит в спальню за портьерами.
— Простите, — говорит Лагос, — но вы, мой дорогой друг, мне не отвечаете. Мне не кажется неуместным выяснить, когда именно вы это узнали. Предположим на минуту, что вся эта история соответствует истине.
— Пожалуйста, — говорит Рене; сидя на столе, он с улыбкой снимает и рассматривает очки; аскетическая тонкость губ скрадывает женственные линии его рта. — Все удивительно просто. Положа руку на сердце, я ничего не знал и не знаю. Разумеется, радио кричит об этом с утра, каждые четверть часа. Слушая радио, я могу вообразить все, что угодно, сделать свои умозаключения и унести их в могилу.
Он улыбается все так же насмешливо и ласково, притворяется, что озабочен прозрачностью своих очков.
— Кто вы, Рене? — спрашиваю я.
— Рене, — отвечает он, вскидывает плечи и беспомощно разводит руками.
— Он мой друг, — говорит Лагос. — И он не может представить себе, как я его люблю. Отлично, умозаключения. — На его лице нет ни нетерпения, ни усталости; может, все это неправда, мы еще находимся в гостинице у реки, и Англичанин никого не убил. — Логически неоспоримо. И мы, дорогой друг, клянемся уважать вашу тайну, ваше намеренное умолчание.
— Договорились, — отвечает Рене. — Но прошу вас согласиться на минуту с предположением, что это были вы и что я это знаю. Хотя бы ради разговора, пока Оуэн переоденется. Мы ведь играли с вами в шахматы, Лагос.
— Благодарю вас, что вы вспомнили; вы не очень сильный игрок, но вас следует отнести к самым изящным в мире. Итак, давайте предположим.
Теперь Лагос, сидящий на краю кресла, оказывается между мужем и вдовцом, между игривой учтивостью и неумолимым отчаянием. Вы ходите быстрее и решительнее; быть может, нет никаких проблем и достаточно выбрать между святым Христофором и дневным светом в окне или не выбирать вовсе.
— Алебардщик, — говорит Англичанин, вернувшись, садится, берет спички для своей трубки. Мы стараемся не удивляться его превращению, благодарны ему за то, что он был первым. Чтобы избавиться от легкого испуга при виде этого человека, который развалился в кресле, поглаживает парик и вытянутой горизонтально рукой опирается на орудие странной формы, обернутое серебристой бумагой, я смотрю на ваши лодыжки.
— Хорошо и даже совершенно, — говорит Рене. — Но сегодня карнавал кончается. Завтра, как только взойдет солнце, вы в своих масках не сможете сделать ни шагу. Таким образом, сутки потеряны; могу повторить, что употребил бы их на то, чтобы приблизиться к границе.
— Именно, — говорит Лагос. — Не только вы, это сделал бы каждый. — Он чуть слышно постукивает концами пальцев по ручке кресла, подается туловищем к Рене, но не так быстро, чтобы я не успел понять, прежде чем он завершил движение, что это ложь. — В полиции будут думать то же самое; люди с «маузерами» на дорогах, проверка автомобилей и поездов… Не очевидно ли? В эту минуту они ждут нас на всех границах. Но кого они ждут? — Он поворачивается к месту, которое занимаю я, но я знаю, что говорит он исключительно для вас, для того, чтобы походя вливать в ваши уши убеждение, что слово «завтра» еще сохраняет смысл и что сам он бесконечно сильнее своего возраста. — Предположим, у них есть, должно быть описание нашей внешности. Но встретится им когда-нибудь хоть кто-нибудь похожий на этого алебардщика, на короля, в которого превращусь я!
— Да, — грустно бормочет Рене, — понимаю.
— Все это, дорогой друг, в широких пределах первоначального предположения, — говорит Лагос, поднимаясь на ноги. Он улыбается, быстрыми шажками приближается к столу, сжимает плечо Рене. — Бедный друг мой, несчастье бывает внезапное, яростное, краткое, а бывает и другое — серое, ежедневное, и ему не видно конца. Это ваше. Дорогой друг. Настал мой черед, я стану королем. — Он задерживается у портьеры спальни; чувствую, он подозревает, что позади него остаются страх и недоверие. — Если бы я руководил отступлением… Конечно, карнавал кончается. Но я обеспечил бы сутки абсолютной безопасности, укрепил моральный дух своей армии и в выигранное таким образом время организовал бросок к границе.
— Это тоже верно, — говорит Рене, но Лагосу мало, он с улыбкой возвращается к середине комнаты, как бы случайно сталкивается с вами и слегка прижимает вас к груди.
— Я король, — говорит Лагос, стоя у стола. — Вас не затруднит проводить меня? — Он кланяется, сдвигает каблуки и входит в спальню вместе с Рене.
Вы бродите по ту сторону дыма из трубки Англичанина; я обнаруживаю, что спокойствие и нерасположение, простирающиеся от худых колен алебардщика, от морщин на белых чулках, с упорством разрушают то, что вы строите. Вы боретесь и настаиваете, но в конце концов останавливаетесь, невидяще улыбаетесь в мою сторону, приближаетесь и падаете на стул рядом.
В маскарадном костюме Лагос кажется одновременно толще и выше; я вижу, как он выходит вперед, как удваивается достоинство его манер. Вероятно, он примеряется к новообретенным качествам, когда наклоняется пошептать на ухо Англичанину, который не шевелится на своем сиденье, под прямым углом опирая руку на короткое копье, называемое им алебардой. Вы расширяете и выкатываете глаза при виде Рене, который появляется одетым для улицы, в соломенной шляпе и с черной книжицей в руке.
— Мы отлучимся, — поясняет Лагос; он смотрит на меня, улыбается вам. — Думаю, ненадолго. У Рене возникла великолепная идея. Возможно, за пару часов все будет улажено. Доктор, в спальне есть телефон; прошу вас, интересуйтесь время от времени нашим другом Альбано.
— Звонить отсюда можно, — прибавляет Рене. — Но не отвечайте на звонки и не пользуйтесь телефоном в мастерской.
В его вежливой улыбке есть что-то странное, я предчувствую неприятное ощущение, которое мне грозит, когда, повернувшись к нам спиной, они пойдут к двери — комическое и печальное трио, — король, алебардщик и этот человек, сопровождающий или ведущий их, как надзиратель сумасшедшего дома своих больных.
Чтобы не видеть их отбытия, я под предлогом телефонного разговора ухожу в спальню, набираю номер, пока они тихо притворяют дверь, успеваю услышать, как в первой комнате растет тишина одиночества, которое начинает окружать вас, обособляя. Голос Пепе в трубке выделяется из звуков, предваряющих полдень: стука и звона стаканов с вермутом, сифонов, тарелок с маслинами, денег и жетонов. Сеньор Альбано еще не пришел; я благодарю, растягиваюсь на кровати, хотя сон у меня пропал, чуть утопаю в голубом одеяле. Думаю о вас и забываю вас, рад намерению забыть вас, забываю соединившее нас неосуществимое будущее, незначительность того, что мы делали вместе, что нас ожидает. Подложив под затылок руки, окруженный, едва не пронзаемый голубыми, розовыми, кремовыми полосами обоев, тороплюсь упасть в какое-нибудь блеклое мгновение былого счастья. Вызываю образ сеньора Альбано, но вижу только неровные редкие пряди темных волос на смуглой жирной коже; догадываюсь, что разом узнаю все истории о нем, его лицо, голос, таинственные и сдержанные манеры, как только Пепе вместо однообразно-отрицательного ответа сообщит о только что возникших осложнениях, перечислит новые успехи осаждающих, которые в конце концов схватят нас. Вспоминаю величие Лагоса, когда он раздавал указания на неустранимо детском языке, продемонстрировав способность предвидеть все, кроме мягкого жеста, каким Англичанин приставил свой пистолет к туловищу человека, приблизившегося к автомобилю, чтобы арестовать нас; возвращаюсь к сеньору Альбано и воображаю нашу встречу в отдельном кабинете кафе или у стойки, свидание, на котором, взявшись под руку, мы неспешно будем делать друг другу скучные признания, какими могут обмениваться мертвец с призраком.