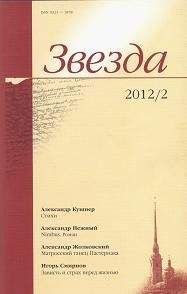Шум в конце коридора тем временем усилился. Уже слышны стали голоса, особенно женский, громкий, как бы задыхающийся от недостатка воздуха и все повторяющий: «Вы не смеете! Прекратите!» Мужской голос, звучный, презрительный, ей отвечал: «Успокойтесь, мадам. Это вам не театр. Тюрьма. И ваш сын как преступник обязан отвечать, когда ответственный чиновник его спрашивает». Между тем посетители уже раздали свои калачи, булки и деньги, этапный начальник, Константин Дмитриевич Коцари, носатый, с густейшими бакенбардами, длинными усами и черными мрачными глазами, по внешнему виду — совершеннейший пират, а по душе — добрейший человек, сновал из камеры в камеру, утирал с лица пот и командовал: «Этапу выходить строиться».
Но что-то там, в конце коридора, было неладно. Федор Петрович словно ощутил исходящий оттуда запах неблагополучия и, мягко сжав и тут же отпустив худощавую влажную руку отца Варсонофия, двинулся туда решительным шагом. Навстречу, к выходу, шли посетители, уступавшие ему дорогу. Наконец прямо перед ним оказалась дама средних лет в сером платье с длинными рукавами, вытертой бархатной накидкой на плечах и черной, сильно сбившейся набок шляпке.
— Сударь! — задыхающимся голосом вскрикнула она. — Я вас умоляю! Я на колени перед вами готова встать!
Федор Петрович с ужасом увидел, как она опускается перед ним на колени.
— Сударыня! — Он попытался поднять ее. — Умоляю вас…
— Нет, нет, — твердила она.
Шляпка в конце концов упала, и Федор Петрович, с усилием наклонившись, поднял ее.
— Они… там… — не поднимаясь с колен, говорила она, — глумятся… издеваются над ним. Для них развлечение, а он… — Она закрыла лицо руками и коротко прорыдала: — Все переживает заново…
Усилиями Константина Дмитриевича дама была поставлена на ноги, на голову ей кое-как водружена была шляпка, поправлена сбившаяся, старого бархата накидка, но лицо ее с горькими складками возле губ и следами слез по-прежнему выражало страдание.
В конце коридора, у стены, теснились готовые к этапу арестанты. С давних пор знакомый доктору чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Михаил Карлович Шульц, белокурый, средних лет господин с водянисто-голубыми, остзейскими глазами и правильными чертами лица, толковал своему спутнику, дородному господину в темно-синем мундире министерства просвещения, что убийце совсем не обязательно иметь зверский вид. Он может быть вполне привлекательным и внушать доверие. Совсем недавно из пересыльного замка пытался бежать и утонул, переплывая Москва-реку, Гаврилов, девятнадцати или двадцати лет от роду. Приятный молодой человек. Студент. Раскроил голову старой женщине, будто бы препятствовавшей его матримониальным планам. Примерно ту же картину мы наблюдаем и здесь. Он указал на арестанта лет двадцати пяти с пылающим лихорадочным румянцем лицом. Наружность, изволите видеть, совершенно обычная, во всяком случае не вызывающая опасения. Отменная аттестация по службе. Женился — и год спустя убил молодую жену.
— Экие страсти! — с довольной усмешкой заметил его высокопревосходительство, утирая чистейшим платком полные бритые щеки. — Отелло!
— Расскажи его высокопревосходительству, — приказал Шульц, — почему ты жену убил? Она тебе изменяла? Да ты не молчи, его высокопревосходительству для научных целей.
— Скажи-ка, — сочным голосом промолвил дородный господин из министерства просвещения, — она, я думаю, кричала, когда ты… Умоляла пощадить, ведь так?
— И вообще, — кривя тонкие губы, заметил Шульц, — ну согрешила. С кем не бывает. Что ж, непременно убивать?
— Вот именно, — назидательно прибавил господин в темно-синем мундире. — Что ж это будет, ежели муж чуть что — за нож? А ты смирись. Ты вспомни, что и сам, может быть, не всегда, так сказать, хранил… Есть, знаешь, прелестницы, — и господин в темно-синем мундире с игривым намеком поднял густые черные брови, — которые и святого… Ну, поучи как-нибудь… — он пошевелил толстыми пальцами правой руки, — так… не до смерти…
— Я не понимаю, — страшно побледнев, срывающимся, временами даже переходящим в визг голосом, заговорил молодой арестант. — Что вам от меня нужно?! Я вам все сказал… Какие прелестницы?! Это ваше дурное воображение… Я ее обожал. У меня впереди ад — и на земле и на небе… У меня в душе геенна огненная, и я день и ночь в ней горю!
— Потише, потише, — прикрикнул Шульц. — А то можно и надлежащие меры…
— Да, да, убил я ее, несчастную, глупую, порочную… Ее не вернешь, я в каторгу, а матери моей без меня тут жить на нищенскую пенсию. О! — схватился он за голову, и на руках у него прозвенели кандалы. — О матери бы мне подумать, но я рассудка в тот миг лишился, вы это способны понять?! Я уже был не я, я весь свет готов был сокрушить…
— Сашенька! — приблизившись, вскрикнула дама в сером платье. — Не говори ничего. Не надо!
— Мадам, — обернулся к ней Шульц. — Вы были предупреждены…
Но Федор Петрович уже наступал на него и на дородного господина в темно-синем мундире и, потрясая сжатыми кулаками, кричал страшным голосом, которого, ей-же-ей, никогда никто от него не слышал, так, что все и в камерах и в коридоре невольно притихли, — чтобы сию же секунду господин Шульц и господин не имею чести знать прекратили свой глубоко безнравственный допрос и оставили несчастного молодого человека в покое. Сзади тревожно и торопливо шептал ему Константин Дмитриевич, что господам уже было сказано, что они не дело делают, но когда человек в чинах, а тот, в темно-синем мундире, — начальник департамента и действительный статский советник, почти генерал, — он никогда никого не слушает и все норовит по-своему. И господин Шульц… Однако какое все это имело значение для Федора Петровича ввиду попираемого на его глазах человеческого достоинства!
— Es ist schuftig! Es ist niedrig! Ehrlos![83] — Кажется, доктор Гааз при этом дважды или трижды топнул ногой. — Ich fordere[84]… да, да, требую незамедлительно оставить помещение этапа! Здесь вам не кунсткамера!
— Да кто вы такой! — Водянисто-голубые глаза Шульца приобрели стальной оттенок, а на гладком лбу проступили красные пятна. — Der beklagenswerte Arzt![85] Ваше дело — клистир! И не суйте свой нос…
Он явно хотел указать, куда доктору Гаазу не следует совать свой нос, но дородный господин в темно-синем мундире уже тянул его за рукав.
— Идемте, Михал Карлыч, идемте… La situation scandaleuse[86]… Терпеть не могу.
Он поспешил к выходу. Следом зашагал господин Шульц, посулив на прощание непременно доложить его сиятельству Арсению Алексеевичу о безобразной выходке, учиненной Гаазом при осмотре должностными лицами Рогожского полуэтапа. Каков пример! Всех давно тошнит от этой филантропии.
— Ich hoffe, — прибавил он, — umsonst wird Ihnen es nicht gehen.[87]
4
Наконец этап был построен. Коцари сверил список: шестьдесят три человека, из них сорок девять мужеского пола, четырнадцать женского; кроме того, на четырех телегах с поклажей за невозможностью идти наравне со всеми следуют одна беременная, две кормящих и одноногий арестант. Ссыльные и заключенные идут в кандалах по крайней мере до Богородска. Одноногому арестанту, как полагается, кандалы выданы в руки. Все накормлены.
Провианту по норме. С этими словами он передал бумаги румяному штабс-капитану, командиру конвойной команды.
— Сударь, — тотчас приблизился к нему Федор Петрович, — прошу вас обойтись без прута. — Он подошел к штабс-капитану еще на шаг и твердо взглянул в его молодое открытое веселое лицо. — В нем нет никакой надобности, уверяю вас…
Штабс-капитан закинул голову и весело рассмеялся, явив всем крепкие молодые зубы.
— Да у меня его и нет! — Он поправил фуражку, улыбнулся и дружески взял доктора за руку. — Ведь вы — Гааз? Федор Петрович? Доктор?
Гааз кивнул.
— О, мне моя маменька о вас много рассказывала, а знала от папеньки. В тринадцатом году вы ему спасли руку. Помните? Нет? Ну, где ж вам все упомнить! — И он опять рассмеялся легким смехом молодого человека, который и без вина был пьян восхитительной прелестью жизни. Ах, да вот кабы коня хорошего, резвого вместо этой старой кобылы — все было бы чудо как хорошо! — Там после сраженья раненых все несут и несут, дым коромыслом, — он покрутил веселой головой, — и какой-то врач папеньке говорит: руки не вылечить, ампутировать. А тут случились вы, Федор Петрович, и возразили: он — это папенька — молодой человек… а ему тогда, как мне нынче: двадцать два!.. Нехорошо ему будет жить без руки. Попробуем спасти. И спасли! А рука-то правая. И папенька до конца дней, когда щи ел или крестился, все приговаривал: «Не будь Федора Петровича, хлебал бы левой и крестился бы левой».
— Душевно рад, — отозвался доктор, что можно было в равной степени отнести как к деснице папеньки, сохранившей счастливую возможность заключать любимую супругу в полноценные объятия, ласкать и со справедливой строгостью наказывать подрастающее поколение, принимать участие в домашних трудах, так и к отсутствию ненавистного Федору Петровичу прута.